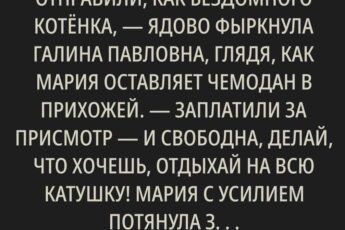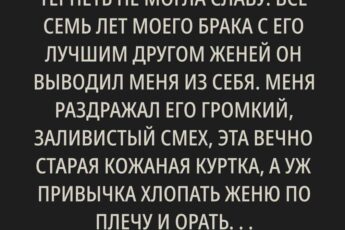Я оставалась с ним до последнего дыхания. А его дети выставили меня за порог, словно случайную попутчицу.
Когда судьба свела меня с Виктором Степановичем, мне стукнуло пятьдесят семь. Он — вдовец с седыми висками, я — женщина с разбитым сердцем и пеплом вместо надежд. Оба израненные жизнью, мы искали лишь тихого приюта. Без клятвенных обещаний, без громких слов — просто тепло двух одиноких душ.
Прожили бок о бок двенадцать лет. Двенадцать лет размеренных рассветов: блины с вареньем по воскресеньям, прогулки до лавочки у пруда, вечера под треск дров в печке. Не спорили, не выясняли, кто прав, — молча грели друг другу руки. Его взрослые сыновья здоровались со мной вежливо, но взглядами резали, как ножом. Я не лезла в их дела — они оставались его кровью, не моей.
Всё рухнуло, когда врачи нашли у Виктора рак. Неоперабельный, с метастазами. Я стала его костылём, голосом, волей. Переворачивала на простынях, вытирала пот со лба, читала «Есенина» вслух, когда боль не давала уснуть. Санитарки качали головами: «Родные редко так держатся». Но для меня это не было подвигом. Просто душа не могла иначе.
В ту последнюю ночь он вдруг крепко сжал мои пальцы, будто боялся провалиться в бездну:
— Спасибо… Наташенька…
Утром его не стало.
На похоронах я стояла в сторонке. Всё организовал старший сын — Артём. Мне даже венка положить не позволили. Дом, где мы жили, был записан на Виктора. Он клялся: «Дети в курсе, ты здесь останешься».
Через неделю пришёл юрист. Бумаги брякнули, как кандалы: квартира, дача, даже старый «Жигуль» — всё сыновьям. Моё имя упоминалось лишь в списке свидетелей на свадьбе 1998 года.
— Двенадцать лет совместной жизни… — попыталась я.
— По закону вы — посторонний человек, — отрезал нотариус, избегая взгляда.
А через три дня на пороге возник Артём. Не сняв ботинок, бросил:
— Отец умер. Освободите комнату до пятницы.
Всё, что было моим миром, осталось за той дверью: вышитые салфетки для кулича, фотоальбом с поездки в Суздаль, его зачитанный до дыр «Шолохов», который я переплела своими руками. Даже чашка с ромашками — ту, что он подарил мне на шестидесятилетие.
Сняла угол в бараке возле вокзала. Подрабатываю уборкой — не ради рублей, а чтобы не сойти с ума от тишины. Знаете, что страшнее пустоты? Чувство, будто тебя вычеркнули ластиком. Как будто не ты каждую ночь молилась, чтобы боль у него прошла. Не ты шептала «потерпи» в телефон, когда он звонил из больницы в панике.
Но я — не призрак. Я дышала. Любила. Жгла свечи в храме за его здравие. И если бы хоть один из них, глядя на отцовский гроб, понял, что рядом не «сожительница», а женщина, которая отдала ему лучшие годы…
Пусть те, кто хоронит и кого хоронят, запомнят: семья — не фамилия в паспорте. Семья — это руки, что не дрогнули подать стакан воды. Голос, что пел колыбельную сорокалетнему мужчине, плакавшему от страха. Сердце, которое не убежало, когда пахло лекарствами и безысходностью.
Я не злюсь. Во мне живёт его шёпот в кромешной тьме: «Спасибо…». Эти два слова — мой диплом о вечности. А бумаги… Бумаги ветром сдует.