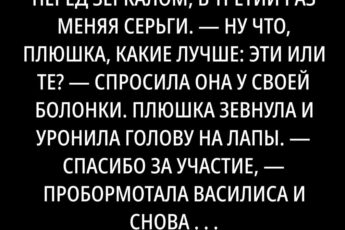Мы жили, будто в сказке, во всяком случае, мне так казалось. Уютный дом в тихом уголке подмосковного Долгопрудного, крепкая семья, стабильная работа в офисе. Ни я, ни родители моей жены Лиды никогда не лезли в наши дела, да и поводов для этого не было. Наша дочка Глаша, настоящий лучик света, наполняла жизнь счастьем. Всё было прекрасно… до того злополучного вечера.
Я торопился домой после смены, пробираясь через заснеженный парк, отделявший наш район от шумного центра. Ветер выл, фонари едва освещали дорожку, и вдруг из темноты донёсся отчаянный крик: «Отстаньте! Пустите!» Звук был таким пронзительным, что я замер, вглядываясь в ночь. Крик повторился, уже ближе, и я, не раздумывая, рванул на голос.
Сквозь метель я разглядел фигуры: хрупкая девушка вырывалась из хватки здоровяка, который тащил её к полуразрушенной стройке. В руках она сжимала трясущегося той-терьера. Я бросился вперёд, ухватив негодяя за куртку. Тот обернулся с бешеной злобой и занёс кулак. Удар обжёг щёку, но я успел увернуться и со всей силы пнул его в живот. Он пошатнулся, оступился о бордюр и грохнулся на лёд, ударившись виском о сугроб. Девушка, даже не оглянувшись, скрылась в темноте, прижимая к себе пса.
Я стоял, едва переводя дыхание. Нападавший не шевелился. Под тусклым светом фонаря я увидел тёмное пятно, растекающееся по снегу у его головы. Меня прошибло холодом. Я вызвал скорую, но уже знал — поздно. Врачи лишь подтвердили: смерть. Полиция приехала следом, и вместо дома я оказался в кабинете следователя, под градом вопросов.
С Лидой я увиделся только в суде. Следователь не разрешал свиданий, отмахиваясь от моих просьб. Я честно рассказал всё как было: про крик, про драку, про случайный удар. Та девушка даже пришла в суд, но следствие упорно видело во мне убийцу. Самооборона? Нет, превышение. Судья огласил приговор: четыре года колонии. Лида, сидевшая в зале, закрыла лицо руками, её плечи тряслись от рыданий. Четыре года — казалось, целая жизнь. Адвокат выбил смягчение, прокурор не стал обжаловать, и я, стиснув зубы, принял свой крест. В камере шушукались: мол, могли и «десятку» дать, так что четыре года — ещё легко отделался.
Тюрьма встретила меня серыми стенами и затхлым воздухом. После карантина я ждал свиданий, но Лида не приезжала. В письмах она писала про быт, про Глашу, но каждый раз находилась причина не ехать. Я скучал по дочери, мечтал прижать её к себе, но без матери ребёнка в колонию не пустят. Писем от Лиды приходило всё меньше, а мои, которые я слал чуть ли не каждый день, будто тонули в пустоте.
И вот — день, который перечеркнул всё. В руках оказался толстый конверт. Я улыбнулся, узнав её аккуратные строчки, но с каждой строкой улыбка гасла. Лида писала о разводе. «Устала, Ваня. Не могу одна. Появился человек, на которого можно положиться. Глаша растёт, а что будет через четыре года? Прости.» Слова жгли, как раскалённый гвоздь. Я смял письмо, чувствуя, как рушится мир. Сосед по нарам, увидев моё лицо, хлопнул по плечу: «Крепись, мужик. Выйдешь — разберёшься. Пошли чай греть.»
За кружкой крепкого чифиря, среди таких же, как я, я едва сдерживал ярость. Старик по бараку, прищурившись, буркнул: «Хватит ныть, паши. Бери нормы, копай на УДО. Время само рассудит.» Его слова засели в мозгу. Я стал работать, как одержимый: перевыполнял план, молчал, терпел. Начальник отряда, видя мои старания, подал на условно-досрочное. Теперь жду решения суда, надеясь на свободу.
Что дальше? Не знаю. Но одно ясно: я сделаю всё, чтобы забрать Глашу. Её новый «папа» и Лида, так легко предавшая нас, не отнимут у меня дочь. Пусть бьёт жизнь — я выстою. Ради неё.