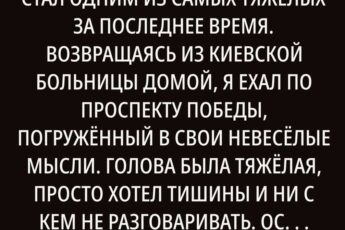Тяжёлый груз памяти
Смерть матери ударила его, как нож в спину — неожиданно и беспощадно. Он приехал лишь на третий день. Не потому, что не успел, а потому, что не смог заставить себя переступить порог дома, где больше не звучал её смех. Как дышать воздухом, пропахшим её духами? Как смотреть в глаза соседям, когда вместо «здравствуй» в горле застревает «прости»?
Поезд прибыл на рассвете. Вокзал встретил его запахом ржавых рельсов, мокрого асфальта и горькой тоски. Он вышел последним, с потрёпанным рюкзаком и лицом, вырезанным из гранита — таким же твёрдым и холодным, каким оно было много лет. В зале ожидания, свернувшись калачиком, спал бродяга, будто пытаясь спрятаться от собственных мыслей. Всё вокруг казалось знакомым и чужим одновременно, как старая фотокарточка, где узнаёшь лица, но не чувствуешь себя частью кадра.
Дом в пригороде Перми стоял, словно состарившийся за одну ночь. Краска облезла, крыльцо покосилось, а перила покрылись рыжим налётом, будто дом тоже плакал. Ступени скрипели под ногами, словно шептали о днях, которых уже не вернуть.
Соседка Галина открыла дверь раньше, чем он постучал — будто ждала его у самой щели. В помятом платке и выцветшем халате, с лицом, изборождённым морщинами, она всё же смягчилась, увидев его. В её глазах вспыхнуло что-то тёплое, будто перед ней стоял не взрослый мужчина, а тот самый мальчишка, что когда-то падал с велосипеда у неё на глазах.
— Ну наконец-то, — проговорила она без упрёка, но с лёгкой грустью. И тихо добавила: — Заходи. Всё на месте.
Квартира пахла сушёной мятой и увядшими ромашками. Сквозь плотные шторы пробивались лучи солнца, ложась на потёртый подоконник и старую салфетку с вышивкой. Он зашёл в материнскую комнату. Всё осталось, как было: плед на диване, аккуратно свёрнутый, как в детстве; часы на стене, чей бой когда-то будил его по ночам. На столе лежала записка: «Ключи от чердака в комоде. Ты знаешь, где всё». Он опустился на диван, не снимая пальто. Замер, уставившись в пустоту. Осмотрел потрескавшиеся обои, пыльный абажур, облупившуюся краску. А потом лёг — прямо в одежде — и провалился в сон. Тяжёлый, как валун, но тёплый, как материнские руки.
Утром он нашёл портфель. Тот самый, с которым когда-то шёл в первый класс. Кожа потрескалась, замок сломался, углы протёрлись до дыр, а ручку кое-как скрепили изолентой. Портфель лежал на верхней полке шкафа, укрытый старой скатертью, будто мать берегла его как святыню. Внутри — потёртые тетрадки с корявым детским почерком, открытка от отца (ещё до того, как он исчез), и записка, написанная дрожащей рукой: «Ты не виноват. У тебя своя дорога. Прости, что не всегда понимала. Мама».
Он сидел на полу, прижимая портфель к груди, как когда-то в детстве. Спина упиралась в холодную стену, ноги поджаты, глаза впились в строчки. Он гладил бумагу, будто хотел сквозь неё дотронуться до её руки. В горле стоял ком, но слёзы не шли. Он просто сидел, слушая, как за окном каркает ворона и как отсчитывают секунды старые часы. И думал: сколько нужно времени, чтобы принять простое «ты не виноват»? И ещё больше — чтобы поверить в это без доказательств, просто потому, что так сказала она.
Он остался на неделю. Разбирал бумаги, выносил старьё, оставляя лишь фотографии. Починил шатающуюся полку, вытер пыль с комода, вымыл окна, впуская в дом свет. Ходил в магазин — не только за хлебом, но чтобы ощутить дыхание этого места. ПиОн уезжал, зная, что больше не вернётся, но взял с собой самое важное — тихое ощущение, что где-то в этом мире его всё еще любят.