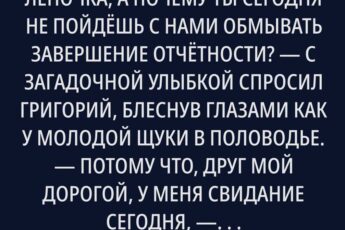Тридцать семь и один день: когда взрослеет не ребёнок, а мать
Я проснулась раньше будильника. За окном — серый, густой туман, будто Москву накрыли ватным одеялом. Воздух стоял неподвижный, ледяной, даже дома чувствовалось, будто стены затаились. И я замерла. Просто лежала и понимала — что-то не так. Что-то уже сломалось, но я ещё не знала, что именно.
Автоматически потянулась к телефону. 6:04. Одно сообщение. Арина. Открыла.
«Доброе утро, мам. Я уехала с Димой в Питер. Не ищи меня. Позвоню.»
Вот и всё. Ни «обнимаю», ни «прости», ни смайлика. Сухо, как квитанция за квартиру. Как будто закрыли вклад — вклад моей родительской жизни.
Перечитала раз десять. Не потому что не поняла. А потому что надеялась: вдруг слова изменятся, если вглядываться дольше. Сердце сжималось, будто его медленно стискивали в кулаке, обёрнутом в снег.
Арина. Семнадцать. Последний класс школы. Девочка, которая зачитывалась Ахматовой, пекла сырники, ненавидела баклажаны и всегда носила на руке красную нитку. Умела смеяться так, что светлело в комнате. И её молчание было мягким, как плед. Всё это было. А теперь — нет.
Вышла на кухню. Стояла босиком, в потрёпанном халате, с телефоном в руке. Чайник не включала. Села. Встала. Снова села. Двигалась на автомате, будто тело жило отдельно от мыслей. Позвонить? Кому? Его номер не сохранён. Только обрывки фраз: «Дима с физмата». ВКонтакте — пустой профиль и фото с волком. Именно волк — вот что пугало больше всего.
Зашла в её комнату. Одеяло скомкано, на столе записка:
«Мам, я не злая. Просто устала быть удобной. Люблю тебя. Но по-своему.»
Это «по-своему»… Как нож. В то место, где шрам не заживёт.
Мы растим детей, как умеем. Оберегаем — от сквозняков, от плохих друзей, от разбитых сердец. Варим борщ, проверяем тетради, покупаем сапоги на вырост. А потом вдруг понимаем: главное уже не «чтобы в шапке ходила», а просто — «чтобы дышала». Чтобы вернулась. Любая. Хоть чужая.
Поехала на работу. Бухгалтерия. В автобусе смотрела в окно, но не видела города. В офисе — у Наташи юбилей. Тридцать семь. Мне вчера — столько же. Только без торта, без тостов, без гостей. Только бутылка «Советского» и недосмотренный сериал.
Вечером — домой. Свет не зажигала. Уселась на подоконник, кутаясь в плед, и смотрела на окна соседей. Где-то мелькал синий экран. Где-то звенела посуда. Где-то жизнь. У меня — пустота, как в забытой квартире.
На следующий вечер — звонок.
— Мам…
— Где ты?
— Я писала. Мы в Питере. У Димыной тёти. Всё нормально. Я не одна, не волнуйся.
— Вернись.
— Пока не могу.
— Я не знаю, что делать…
Тишина. Потом:
— Мам, а ты вообще счастлива?
Вопрос врезал под дых. Сначала не нашла слов. Потом честно выдавила:
— Не знаю. А ты?
— Хочу понять, какая я, когда не надо угождать.
И тишина. Потом — короткие гудки.
Не спала всю ночь. Сидела на кухне, листала переписки, фотки. Где-то между зимой и весной что-то порвалось. А я пропустила. Отчёты, грипп, сессия, ипотека, диван «Аскона». Всё — «для неё». Всё — мимо.
Через неделю она вернулась. Без истерик. Без оправданий. Просто вошла, сняла куртку, бросила рюкзак в угол и спросила:
— Можно я пока тут поживу?
Кивнула. Подошла. Обняла. Впервые — не допытывалась.
Молчали. Минут десять. Потом она тихо:
— Я люблю тебя. Теперь понимаю: тебе было тяжело. Но я всё равно уеду. Не сбегу. Просто — жить. По-своему. Можно?
Можно.
Прошёл год. Арина снимает комнату в Подольске. Работает в кафе. Учится на архитектора. Приезжает по субботам. Едим пироги, спорим про кино, болтаем. Иногда ругаемся, но теперь — слышим друг друга.
Тридцать семь и один день. Тогда началась её взрослая жизнь. И моя. Тоже.