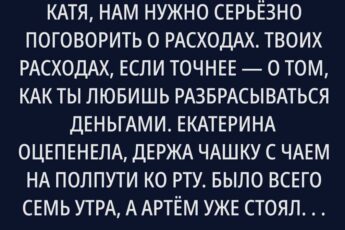Варвара стояла у кухонного окна, жуя черствый хлеб с маслом и глядя во двор. Утро было серое, дождливое, отражая ее настроение последних недель. За стеклом мелькнула знакомо – Агафья Степановна брела к подъезду, сгибаясь под тяжестью сумок.
— Мам, соседка опять одна с ношей мучается, — крикнула Варвара в комнату, где за столом сидела Прасковья Федоровна, листая потрепанный журнал. — Помочь?
— Какая она мне соседка? — буркнула та, не глядя. — Посторонняя тетка. Сын есть у нее, пусть помогает.
Варвара поморщилась, но смолчала. Прасковья Федоровна в последнее время стала кусачей, словно растревоженная оса. А ведь всегда первая помогала, коль кому в доме туго приходилось.
— Сын-то в Германии трудится на вахте, сама знаешь, — тихо проговорила Варвара, натягивая куртку. — Схожу в ларёк, заодно ей сумки поднесу.
— Иди, иди, наша блаженная, — зыркнула Прасковья Федоровна. — Всем сочувствуешь, а про меня забудешь.
Варвара замерла у двери, обернувшись к женщине, что звалась матерью сорок лет. Худая, с седыми волосами в тугом пучке, Прасковья Федоровна казалась особенно хрупкой в кресле. Морщины на лице врезались глубже, руки дрожали, перелистывая страницы.
— Тебе чего прихватить? — мягко спросила Варвара.
— Ничего не надо. Шагай, коли собралась.
На лестнице Варвара наткнулась на Агафью Степановну, тяжело дышавшую на площадке.
— Агафья Степановна, давайте я вам помогу, — предложила Варвара, забирая одну сумку.
— Ох, спасибо, дитятко! — выдохнула соседка. — Силы-то нынче не те. Годы берут свое.
Поднимались медленно, отдыхая на каждом пролете.
— А Прасковья Федоровна ваша как? — осторожно поинтересовалась Агафья Степановна. — Что-то не видать её.
— Да по-всякому, — уклонилась Варвара. — То получше, то похуже.
— Понимаю, понимаю. У меня сестрица тоже… — Агафья Степановна замолкла, но Варвара поняла недоговоренное.
Донесла покупки до двери и вернулась. Прасковья Федоровна сидела в кресле, но журнал лежал рядом. Она смотрела в пустоту, словно что-то высматривая.
— Мам, чайку попьем? — предложила Варвара, сбрасывая куртку.
— Мам… — протянула Прасковья Федоровна, и в голосе зазвучала странная нотка. — Ты меня мамой зовешь.
Варвара застыла. Тон насторожил.
— Ну да, мам. Иначе-то как?
— А ведь я тебе не мать, — тихо сказала Прасковья Федоровна, поворачиваясь к ней. — Я тебе никто.
Внутри у Варвары всё сжалось. Оно. Чего она боялась месяцами. Чего избегала, видя в глазах Прасковьи порой непонимание.
— Что ты, мам? — Варвара присела рядом, взяла ее дрожащую руку. — Конечно ты мама. Самая родная.
— Нет, — упрямо покачала головой Прасковья Федоровна. — Помню я теперь. Помню всё. Ты не дочь мне. Ты… чужая.
Комок встал в горле у Варвары. Она знала – этот день придет. Врачи говорили: болезнь прогрессирует, память будет подводить. Но не думала, что забудется именно это.
— Мам, послушай, — начала Варвара, стараясь говорить ровно. — Ты права. Родила не ты. Но воспитала ты. Любила ты. Ты для меня и есть мать.
— Воспитала… — Прасковья Федоровна нахмурилась, словно вороша память. — Да, воспитала. Привезли тебя… маленькую. Плакала день и ночь, от еды отказывалась.
— Да, мам. Три года мне было.
— Три… — протянула Прасковья Федоровна. — А родная-то мать где? Где она?
Варвара закрыла глаза. Этого разговора избегала всю жизнь. Прасковья Федоровна молчала, Варвара не допытывалась. Хватало того, что есть мама, любящая.
— Не ведаю, мам. Ты не рассказывала.
— Не рассказывала… — задумалась Прасковья Федоровна. — Может, и к лучшему. Худого в той истории хватает.
Варвара ждала, боясь шелохнуться. Прасковья Федоровна долго молчала, потом заговорила:
— Подружкой моей была. Твоя мать. Звали Алевтиной. В техникуме вместе грызли гранит науки, потом на заводе работали. Красавица, хлебосолка. Кавалеры вились, как мотыльки на свет.
Варвара затаила дыхание. Впервые за сорок лет слышала о матери.
— Рано замуж выскочила, тебя родила. Да муж подкачал… Непутевый. Пивал, руки распускал. Она от него сбежала, а куда с дитём податься? Кое-как у добрых людей ютилась. Потом новый мужчина подвернулся, звал замуж, да детей не жаловал.
— И отдала меня?
— К нам принесла. Говорит: «Паня, выручи. Ненадолго, пока устроюсь». А сама… — Прасковья Федоровна запнулась.
— Что, мам?
— С тем мужчиной сгинула. Обещала за тобой через полгода вернуться. Не вернулась.
Слезы покатились по лицу Варвары. Чуяла сердцем нечто похожее, но слышать было больно.
— А дальше?
—
Людмила Ивановна молча протянула ей ломтик черного хлеба, и в этом простом жесте, в знакомом запахе и вкусе детства, Валя почувствовала вечную, нерушимую связь с единственной матерью, что у нее была или будет.