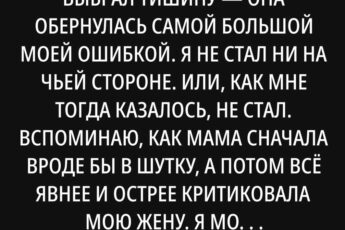Олег стоял у кухонного окна, разжевывая черствый хлеб с маслом и наблюдая за соседским двором. Утро выдалось хмурым, дождливым, подстать его настроению последних недель. За стеклом мелькнуло знакомое лицо – Надежда Петровна шла к подъезду, сгибаясь под тяжестью сумок.
– Мам, твоя соседка опять пыхтит с покупками, – крикнул он в комнату, где Людмила Ивановна сидела за столом, перелистывая старенький журнал. – Помочь Семеновне?
– Типун ей на язык, какой я ей сосед? – проворчала женщина, не отрывая глаз от страниц. – Чужая баба. Сын пущай помогает.
Олег поморщился, промолчал. Людмила Ивановна в последнее время стала колючей, словно озлобленный дикобраз. А ведь раньше она сама кидалась помогать кому угодно в их доме.
– Сын её в Германии крутится, ты в курсе, – тихо напомнил Олег, натягивая куртку. – Сбегаю в лавку, по пути подсоблю с сумками.
– Иди, иди, святая ты наша, Серафим Саровский, – фыркнула Людмила Ивановна. – Всех жалеешь, а про старуху забулдыгу позабыл.
Олег замер у двери, окинул взглядом худенькую фигурку в кресле, которую мамой звал уже сорок с лишним лет. Седая голова в тугом пучке, руки чуть трясутся, переворачивая страницы, морщины на лице залегли глубокими тенями. – Тебе чего-нибудь? – спросил мягко.
– С плеч долой! Марш отсюда.
На лестнице Олег столкнулся с Надеждой Петровной, тяжело опирающейся на перила.
– Надежда Петровна, давайте я вам помогу, – предложил он, беря у неё самую тяжелую авоську.
– Ох, спасибо, деточка! – выдохнула женщина с облегчением. – Совсем уж силенок не хватает ноне. Видать, возраст.
Шли медленно, останавливаясь на каждой площадке.
– Как ваша Людмила Ивановна поживает? – осторожно осведомилась Надежда Петровна. – Что-то давненько не видать её.
– Да эдак… по-всякому, – уклончиво буркнул Олег. – То лучше, то хуже.
– Чую, чую. У моей родни тоже было… – соседка замолчала, но Олег понял намёк.
Донес сумки, вернулся домой. Людмила Ивановна сидела все в том же кресле, но журнал лежал на столе. Она безучастно смотрела в стену, словно узоров искала в обоях.
– Мам, чайку не хоче небалитого? – предложил Олег, скидывая куртку.
– Мам… – повторила Людмила Ивановна, и голос её прозвучал странно отрешенно. – Ты меня мамой зовёшь.
Олег насторожился. Что-то в этих словах заставило холодеют руки.
– Ну да, мам. А как же по-другому?
– А ведь не я тебя на свет родила, – тихо проговорила Людмила Ивановна, поворачиваясь к нему. – И никто я тебе.
У Олега внутри все сжалось. Оно. Чего он боялся месяцами. Чего избегал, видя её растерянный взгляд.
– Что болтаешь, мам? – Олег присел рядом на корточки, взял её морщинистую руку в свои. – Конечно, ты мне мама. Самая что ни на есть.
– Недоля, – упрямо качнула головой Людмила Ивановна. – Память-то вернулась. Помню я всё теперь. Ты не мой сын. Ты… чужак.
В горле у Олега встал колючий ком. Он знал, этот день придет. Врачи предупреждали: болезнь будет грызть память все сильней. Но не ожидал, что вспомнится именно это.
– Мам, слушай меня, – начал он, стараясь говорить ровнее. – Ладно, права ты. Не ты меня родила. Но ты подняла. Вырастила. Любила. Ты и есть мама.
– Вырастила… – Людмила Ивановна нахмурилась, будто продираясь сквозь туман. – Ага… привезли тебя… махоньким. Плакал день-деньской, есть отказывался.
– Точно, мам. Три годика мне было.
– Три… – протянула она. – А где та, роженица? Где она прячется?
Олег закрыл глаза. Этого разговора он бегал всю жизнь. Людмила Ивановна молчала, он не лез. Ему хватало её любви.
– Не в курсе, мам. Говорить об этом не любила.
– Молчала… – задумалась Людмила Ивановна. – И правильно, поди. Правда-то горькая.
Олег замер в ожидании. Людмила Ивановна долго молчала, потом вдруг выдавила:
– Была она мне подружкой. Родименькая твоя. З
Они молча доели завтрак, чувствуя незримую нить любви между ними, тёплую и прочную, как самовар на столе, ведь настоящая мать — та, чьи руки согревали в стужу, чей голос утешал в беде, чьи глаза с любовью смотрели сквозь годы и немощи, и Людмилу Ивановну судьба щедро наделила этим материнским теплом, ласкавшим Валю как родную, а биология здесь была лишь второстепенным штрихом на портрете их заботливости.