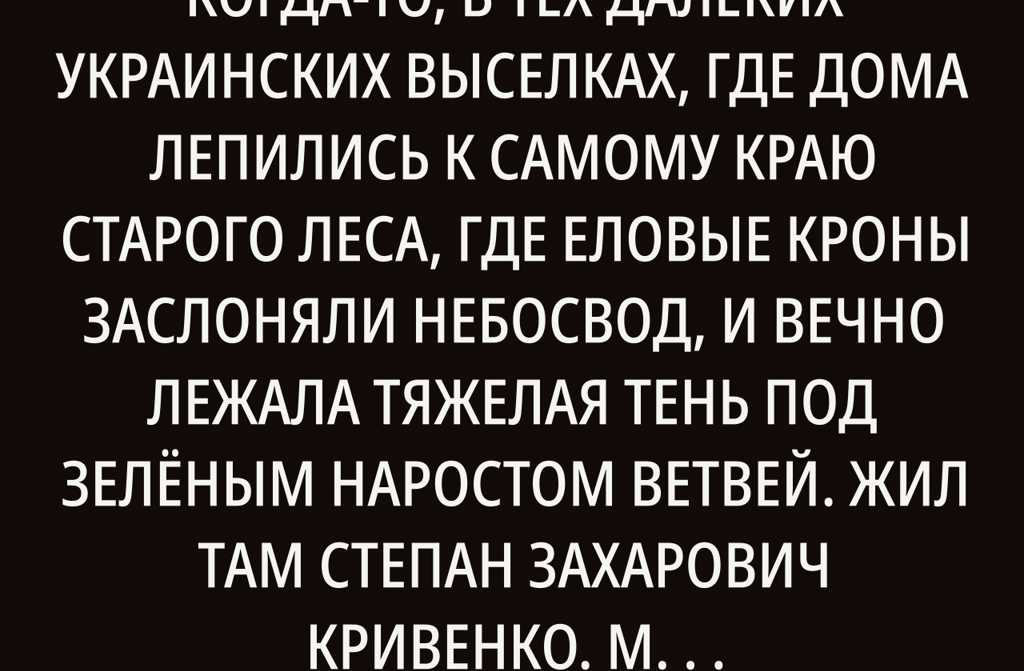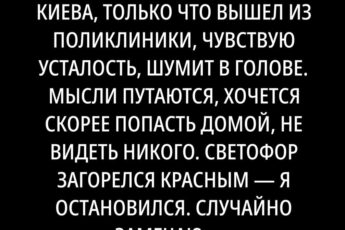Яблоки на снегу…
Это было когда-то, в тех далёких украинских Выселках, где дома лепились к самому краю старого леса, где еловые кроны заслоняли небосвод, и вечно лежала тяжелая тень под зелёным наростом ветвей. Жил там Степан Захарович Кривенко. Мужчина из породы тех, что не крошатся, не ломаются скала, не иначе.
Всю жизнь в лесхозе проработал каждую берёзу знал по имени, каждую тропку кабаньей копытом не раз потрогал, ни одна лисья нора не ускользнула от его взгляда. Кисти у Степана были огромные, как у украинских хлебопашцев: вся ладонь в мозолях смола и земля навечно въелись. Сердце же у него, казалось, как из векового дуба было сколочено крепкое, надёжное, но стальное, неподатливое.
Жил он с женой Агафьей Павловной. Три десятка лет душа в душу, зло друг на друга ни разу не подумали, люди их уважали, прямо говорить не боялись. Дом у Кривенко был хоть на картину пиши: ставни голубые, что у Агафьи глаза, палисадник весь в мальвах и флоксах, в огороде ни травинки лишней. Вечерами, бывало, прохожу мимо а они на лавочке возле крыльца сидят: Степан на бандуре играет вполголоса, Агафья тихо вторит своим светлым сопрано. Так ладно у них получалось заслушаешься.
Помню, как сад яблоневый свой сажали. Степан ямы копал, чернозём ворошил, а Агафья саженцы поправляет, корни распутывает, шепчет: «Растите, родимые, на радость деткам». А Степан глядит глаза как солнце, да улыбается так, что потом уж никогда такой улыбки никто у него не видел. И сад вышел чудо как хорош: весной белое облако над двором, а осенью яблок хоть косой коси, пахнут за километр.
Только рано угасла Агафья болезнь пришла, иссушила её за три месяца, ушла она тихо, во сне, руку мужа крепко держала. Степан тогда враз поседел, как иней поутру, только не плакал. Мужик же, нельзя. Стиснув зубы, выдержал, да только еще больше стал суров, чернее тучи.
Осталась у него дочка, Надежда. Девчонка светлая вся в мать. Для него она стала лучиком в самом длинном украинском вечере всё, что держало его на этом свете, в этой тиши, где эхо даже кажется чужим. Дочкой дорожил, души не чаял, но по-своему по-украински, строго, сурово. Берёг её так, что даже весеннего ветра к ней подступиться не давал, всё боялся вдруг уйдёт она, останется он один, как остался после Агафьи. И этот страх весь его иссушил.
Ты, Надя, всё моё в этом доме, бывало, скажет, рукой по гладкой косе этак проведёт. Подрастёшь, хозяйкой станешь, на тебе дом держаться будет. Не пущу тебя никуда жить тебе тут хорошо, а в городе волки, да хитрецы одной ногой. Зачем он тебе?
А Надя росла загляденье, коса густая, светлая, до пояса, глаза голубые-голубые, как после дождя небо, в отца пошла. А уж как пела иной раз выйдет на пригорок, песню затянет все птицы замирали, а пастухи слушали, косы к земле опускали. Бабки в деревне слёзы утирали, говаривали: «Вся в Агафью и голос, и судьба». Мечтала Надя в Киев поехать, в музыкальное училище поступить, да отец не пускал боялся городских дорог, как огня.
Ни за что! кричал, бывало так, что даже посуда в шкафу звенела. Замуж за Федьку из соседнего села отдам, дом свой строит, в поле работящий! Пела, значит, и в клубе споёшь, люди послушают, а куда это в город подаваться? Гулящая жизнь там, пока песен его хватает!
А десять лет назад, в октябрьский дождик, не выдержала Надя чемоданчик собрала, вышла к двери. Степан взвился, топнул, да крикнул так, что комары попадали.
Уйдёшь всё, не дочка мне! И домой путь забудь! прокричал в спину. А она только плечами вздрогнула, и ушла, ни разу не оглянувшись. Он тогда схватил топор, и врубил со злобой в ступень на крыльце щепки в стороны, а в сердце дыра.
Двенадцать лет минуло. Зиму сменяли весна и лето, дети в селе взрослели, у кого свадьбы, у кого армия, а дом Кривенко стоял печальный, немой, словно памятник тоске. Застоялся сад, потолстели дикие ветки, облупились ставни, а топор тот так и остался, проржавев в дереве, язва на память.
И вдруг, прошлой осенью ударили крепкие морозы ноябрь ещё, а по сёлам уже минус двадцать пять греет. Снегу как не бывало чёрная, звенящая земля кругом. Иду я раз после вызова дым из трубы у Кривенко не идёт. В деревне это значит беда.
Пёс у них был Атаман. Старый, весь в шрамах, и тот даже не тявкнул, когда я калитку открыла, только хвостом по снегу провёл.
Захожу в хату там холодно, как на кладбище. Холод леденящий, вода в ведре в лёд схватилась. Вонь старых лекарств и забвения по углам. На кровати под тулупом весь скукожился Степан, трясётся, зубы вибрируют.
Степан! Ты чего творишь?! зову.
Глаза мутные, воспалённые, смотрит сквозь меня, не узнаёт.
Гафия… Гафия… бормочет, да дочку зовёт. Надя где? Почему не поёт? Пусть споёт «Ой у лузі червона калина…»
Бредит, думаю, беда. В ту ночь не ушла домой, осталась. Печь растопила, паром нагнала, ингаляции поставила. А он всю ночь в бреду:
Надя, вернись… Не ходи в лес, там волки… Прости, доченька…
Я возле него сидела, платок вязала, а в душе слёзы, так жаль мне стало этого упрямого мужика, что сам себе гроб построил из любви нерастраченной.
К утру полегчало кризис миновал, жар спал. Глаза открыл разумные, только больно в них.
Мелания, прошептал. Я ведь её ждала, Надю. Каждый день ждал. С утра до вечера у окна. Может, придёт, переступит через порог…
Знаю, говорю, стелюсь одеялом. И она тебе писала. Ганна с почты мне шепнула.
Писала? Где письма? Я ведь ящик забил, проклятие…
У Ганны хранятся. Не выбросила.
На рассвете побежала я на почту, забрала коробку писем. Реки папиросной бумаги, детские фотокарточки, открытки с пожеланиями. Принесла всё Степану.
Как он их читал, видеть надо! Руки дрожали, огромные, слёзы по морще лились, фотографию внучки к груди жал.
Нашёлся где-то и номер телефона, только часть стерлась. Город указано Львов. Пока писать, неделя пройдёт, ответа не дождёшься.
Я поеду на коленях, хоть лягу, найду её!
Лежи, казак. Найдём быстрее век двадцать первый же.
Пошла я к сыну соседки, Артёму. Тот компьютерщиком в райцентре, приехал к матери лампочку чинить.
Объяснила найди, мол, через Интернет.
О, это не быстро, отвечает, но попробую. Соцсети… Вводим: Надежда Коноваленко… Вот фото! Вот и дети! Вот муж Сидорчук…
Сообщение отправили: «Степан болеет, ищет тебя, дочка».
Ждали долго. Интернет как гуси по просёлку: то бегут, то никуда. Степан рядышком сидит, руки трясутся, валидол пьёт.
Не ответит… шепчет.
И вот звонок! Ответили, написали телефон мужа. Звоним. Голос суровый, мужской.
Кто? Вам кого?
Это Степан… отец Нади…
Глухо. Долгая пауза.
Отец, значит? Вспомнили?
Телефон мне, Петро!
Алло? голос Надежды, тихий, сдержанный, со слезой.
Наденька… дочка… жив ли я…
Молчание густое, потом:
Зачем вы звоните?
Помирать мне, Надя. Виноват я перед тобой… Последний раз хотел голос твой услышать…
Она вдруг разрыдалась, невысоко, тонко. Потом говорит:
Мы приедем, папа. Хоть и горько мне, но не могу, чтоб ты в одиночку умирал. Жди
Положил трубку не радость на лице, а только облегчение.
Приезжать будет долг платить, не прощать… Бог судья…
А куда приедут? Всё завалено, немыта посуда! вспоминает.
Тихо! отвечаю. Всё успеем.
Женщины деревни поднялись всем миром, намыли-постирали. Степан ходит как мальчишка: и боится, и ждёт.
Утром встреча: приезжает «Волга», выходит Надя, муж Петро, внуки. Степан на крыльце, шапка в руках. Надя у калитки смотрит на дом, на крыльцо, на зарубку того топора. Борется в ней всё тоска, боль.
Здравствуй, Надя.
Здравствуй, тато, шепчет.
Обнялись не как родные, а как чужие, опасливо. Он и дышать боится, она руки опустила слёзы текут, боли сколько, сколько лет ушло…
В доме все по-новому, внуки сторонятся, Петро строгий. За столом тягучая тишина. Степан рюмку дрожащей рукой поднял:
Спасибо, что приехали… Не простил бы себя…
Петро вздохнул, за Надю держась:
Ладно, пан Захар, кто прошлым живёт вперёд не идёт… Жена ваша добрая. Давайте за встречу.
И тут внучка Орися спросила голосом звонким:
Дед, а чего топора в крыльце нет? Мама говорила…
Надя её остановила.
Орися! Ешь.
А Степан:
Сгнил топор, детка. И злость моя туда же. Я тебе завтра покажу лес живой, настоящий.
Лед трещал по чуть-чуть. Три дня жили, будто по новой учились быть вместе. Степан осторожничал, слово лишнее не скажет. На третий вечер Надя ко мне глаза красные.
Попросите что-нибудь от сердца, тяжко мне.
Я ей чаю с чабрецом.
Не отпускает?
Нет. Жалко его, дедушка теперь, а как вспомню тот день… всё внутри сжимается. Хотела всё высказать, а не могу: он ведь и так наказан.
Это мудрость, Надя. Простить значит понять, пожалеть. Он ведь из любви, по-тупому, но любил.
Она вздохнула:
Смотрю, как он внучке варенки сушит как в детстве. Чуть отпустило. Будем жить, тётя Мелания, ради детей.
Через неделю уехали, летом вернулись. Степан будто иной стал, дом поднял, сад вычистил. И чудо яблони словно заново зацвели. Иду как раз сидят: Степан и Надя, плечом к плечу на крыльце, молча на закат смотрят. Орися венки плетёт.
Степан мне машет лицо светлее прежнего. Надя улыбается с грустью, но злости нет.
Мелания, заходи на чай с яблочным повидлом! Надя наварила янтарное, прозрачно!
Я зашла. Сидим, чай пьём, пахнет антоновкой, тишиной и миром.
Разбитую чашку склеить можно трещина останется, но чай в ней слаще: беречь начинаешь. Жизнь короткая, как зимний день возле Днепра. Моргнуть не успеешь уже закат. Мы думаем: «Успею, позвоню, прощу». А «потом» оно может и не настать. Дом тогда остынет, а почтовый ящик так и останется пустым.