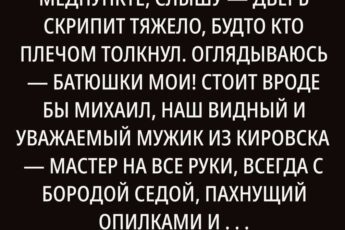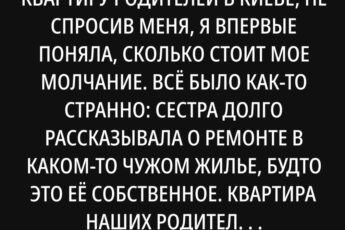Самое главное
Температура у Любы резко подскочила. Градусник показал 40,5, и почти сразу начались судороги. Маленькое, худенькое тело выгибалось так страшно, что Ирина замерла, не веря своим глазам. Она бросилась к дочери, едва сдерживая дрожь в руках.
Изо рта Любы пошла пена, дыхание стало хриплым, будто кто-то сжимал изнутри горло. Ирина судорожно пыталась открыть ей рот пальцы скользили по сжатым зубам, но ей удалось. И тут девочка резко обмякла, глаза закатились, она отключилась. Шло ли пять минут или десять никто бы не сможет сказать, время больше не делилось на секунды, а отсчитывалось ударами сердца Ирины, тяжёлыми, как удары молота в висках.
Она следила, чтобы язык не перекрыл дыхание, держала Любины виски, когда судороги били с новой силой. Больше для Ирины не существовало ничего был только один страх: чтобы Люба сумела сделать вдох. Чтобы она вернулась.
Ирина кричала на кухню, на стены, в пустую квартиру, в чёрное июньское небо. Кричала в трубку 103, повторяя имя дочери так обречённо, будто этим криком удерживала её на этом свете.
Позвонив Максиму, Ирина, рыдая и задыхаясь, с трудом выговорила только:
Люба… Люба чуть не умерла…
Но в трубке Максим услышал совсем иное короткое, страшное слово: умерла.
Сердце он сжал руками, будто пытался заглушить жгучую боль, словно внутрь воткнули раскалённую кочергу. Ноги подломились, и он, едва слышно, сполз с кресла на пол, как человек, в котором вмиг иссякли все силы всё, что было его будущим, надеждами, мыслями…
Кто-то подбежал, поддержал под локоть, кто-то протянул корвалол, кто-то стакан воды с дрожащей рукой. Говорили что-то ободряющее, но слова растекались в воздухе, не достигая его отчаянного сердца.
Максим не мог взять себя в руки. Пальцы дрожали, стакан бился о зубы, и вместо слов вырывались обрывки фраз глухие, беспомощные:
У-у… ммме-р-р… ла… Л-лю-ба… у-у-мер-ла…
Губы побелели, дыхание стало прерывистым, он не узнавал свои руки.
Шеф, Виталий Иванович, не медля ни секунды, подхватил Максима и едва не силой затащил в свой старый «Прадо». Дверь хлопнула с такой силой, что в груди всё кольнуло.
Куда?! Куда ехать?! выкрикнул он, пытаясь довести смысл до затуманенного сознания Максима.
Тот сидел, как потерявший зрение, с широко раскрытыми, ничего не видящими глазами. Несколько долгих секунд он даже не моргал, зависая между явью и ночным кошмаром.
Детская… городская… больница… — прохрипел, будто каждое слово ранит нёбо, от костей до самых жил.
Больница была далеко чудовищно далеко и для машины, и для сердца, только что узнавшего самое страшное слово в жизни.
Виталий Иванович вдавил газ, внедорожник метался от полосы к полосе, а светофоры сливались в абстрактные пятна. Красный? Зелёный? Сейчас всё равно!
На одном перекрёстке их резко понесло, и чёрный «Гелендваген» возник слева внезапно, будто вырос за секунду. Лобовое столкновение отделяли считанные сантиметры. Виталий Иванович выкрутил руль, машину завернуло боком, резина завизжала по асфальту, под колёсами прошли искры.
Второй джип промчался мимо, оставив в воздухе резкий запах гари и ощущения, что смерть только что прошла вплотную, почти коснувшись.
Максим ничего этого даже не заметил.
Слёзы текли, не прекращаясь. Он держал кулак у губ, чтобы не заорать, чтобы не сдаться боли.
И вдруг вспышка памяти.
Любочке три года. У неё жестокая ангина, температура зашкаливает, взрослым страшно смотреть на градусник. Скорая делает укол, советует свечи. Маленькая Люба стоит в кровати, в пижаме с ведмежатами, заплаканная, горящая от жара. Ирина долго её уговаривает, Люба шмыгает носом, трет кулачками глаза, наконец соглашается:
Ладно, ставь… только не зажигай!
Максим тогда рассмеялся до слёз ведь они недавно были в храме, и девочка подумала, что свечи поджигают всегда!
Виталий Иванович вывел машину на проспект притихший, залитый фонарями, острый, как лезвие ножа.
А память нарисовала другую картину.
Через пару недель Люба, ловкая обезьянка, влезает на огромный платяной шкаф. С криком карабкается к самому потолку. И вдруг шкаф начинает наклоняться… Бах! Корпус с грохотом валится на пол. Ирина визжит, Максим бросается, слишком поздно… Грохот. Тишина. Сердце сжимается.
Но Люба жива. Синяки, слёзы, испуг и огромная шоколадка, чтобы хоть как-то успокоить малышка.
Увидев шоколад, Люба мгновенно перестала рыдать, вытерла сопли рукавом и спросила:
Можно две?..
Вот такой у неё способ счастья шоколадка в трудную минуту. Максим тогда подумал: если бы в больницах выдали шоколад, люди бы жили вечно.
Вечер. Тишина. Лампа жёлтым пятном падает на стену.
Ирина шепчет:
Завтра в храм пойдём, свечку за здравие поставим.
А Люба серьёзно переспрашивает:
В попу, да?..
Ирина уткнулась лицом в ладони, а девочка сидела и смотрела, будто никак не могла понять, из-за чего они смеются.
И сейчас, в машине, эта нелепая реплика ударила Максим в самое сердце. Ведь бытие дочки жило именно в таких её чудных фразах. В самых простых, самых смешных.
Шеф довёз Максима до приёмного покоя. Въехали рывком, словно машина боялась остановиться даже на миг.
Люба жива, первым делом узнал Максим, её сразу забрали в реанимацию, уже несколько часов ни слова от врачей.
Ирине разрешили быть рядом. Максиму оставалось только ждать. Молиться. Надеяться…
Час ночи. Тишина, будто весь мир задержал дыхание. Максим поднял глаза в окне второго этажа, где шла тяжёлая борьба за жизнь дочери, появилась Ирина. Статная, окаменевшая тенью, выглядела сквозь стекло в ночь. Не позвонила, не вздохнула, не махнула рукой просто смотрела. Как неосмелившийся призрак любви, что исчезнет, стоит только пошевелиться.
Максим отчаянно махал ей рукой, звонок не ответила. Просто стояла, будто держала в глазах мир и их общую надежду.
И тут затрещал его телефон. Коротко. Резко.
Зайдите, сказали в трубке. И сразу сбросили.
Страх накрыл так плотно, что воздух сгущался, вязкий, как патока. Максим хотел встать не слушались ни ноги, ни тело, будто сама земля старалась не пустить его за дверь, чтобы уберечь от самого страшного.
Он знал, что должен идти, но страх сковывал каждую мышцу.
И тут из дверей появилась медсестра. Уставшая, молодая, в разношенных мягких тапках. Подошла, посмотрела внимательно.
Максим смотрел на неё и в нём всё рухнуло. Всё. Граница. Вот она скажет…
Сделав шаг ближе, медсестра кивнула и тихо, как приговор но светлый, вернула его миру:
Будет жить. Кризис прошёл…
Мир поплыл, качнулся. Его губы зашевелились, стали чужими. Он пытался что-то сказать, хотя бы «спасибо», хотя бы «Господи», хотя бы правильно вздохнуть. Но получалось только плакать. От облегчения, от счастья.
С тех пор для Максима многое потеряло смысл.
Ему стало всё равно, что скажут про него соседи, стал не бояться увольнения, не страшно быть странным, смешным или нелепым. Важно только одно память о той самой ночи. О том, как легко оборвать целый мир. О том, что ради любимого человека готов двигать горы а на самом деле можешь лишь плакать и ждать.
Тонкая грань между До и После. После той ночи всё остальное стало просто шумом, исчезающе неважным на фоне настоящей жизни.