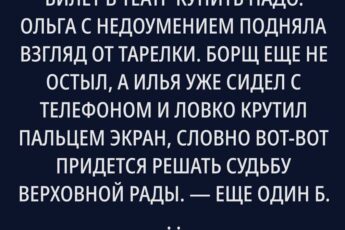В ту ночь, когда снег скрипел под окнами, а темень заполняла весь двор, мне пригрезился странный визит будто бы ко мне, Яне Никитичне, в сельский медпункт пришёл самый молчаливый человек на свете, Степан Иванович. Высокий, как сосна; плечистый, лицо у него обветренное, в глазах тишина вековых болот. Он вообще всегда, словно призрак на границе леса, чуть заметный, но вечный. Никогда ни на что не жалуется, молча дрова колет да воду таскает старухам, будто бы всё это ему и не в тягость вовсе.
Но вот, словно сквозь туман, вижу: дверь распахнулась, и вваливается он, не человек переохладившаяся тень. Стоит, теребит свою лохматую ушанку, глаз от пола не подымет, а с воротника капает талая вода. Всё у него тяжелое: и пальто насквозь мокрое, и сапоги в ледяной грязи, и сердце будто придавлено плитой. Такой ссутуленный, что аж воздух в избушке сгустился.
Ну чего стоишь, проходи, говорю я, чайник уже ставлю, чтоб хоть пар поднялся, а то мне кажется он сейчас просто исчезнет, испарится, если его не согреть.
Садится он на край кушетки, руки-клопы держит над стаканом чая, дрожат пальцы. Чай на пол брызжет, да и весь он как струна перетянутая, сейчас лопнет. Глаз не поднимает, только вдруг скатилась по впалой щеке слеза. Одна, тяжёлая, как комок земли, потом ещё одна. Сидит, Крепыш этот, и, не плачет даже, а роняет слёзы, как будто гранитный утёс мокнет дождём.
Ухожу я, Яна Никитична, прошептал он так, что слова чуть не затерялись среди тиканья часов, не могу больше. Все, конец.
Села рядом, рукой шероховатой по его пальцам ледяные. Он не отдёрнулся, даже будто бы благодарен стал.
Куда ж ты уходишь, Степанушка?
От баб своих, глухо шепчет, от жены, Аграфены, от тёщи Марии Карповны Задушили они меня, змеи Всё не так им: суп жирный, полка крива, борозда мелка. Только зуб на зуб. День за днём, год за годом, словно в болоте вязком тишина, да не та, что спасает, а та, что душит.
Запах чабреца в воздухе остро режет. Тишина тикает по стенам.
Я же, Яна Никитична, не барин. Работаю, всё делаю, скотину пою, по дому хлопочу. Они мне в ответ: «не мужик, а толку нету». Слово скажу ор на неделю. Молчу хуже: «чего примолк, что скрываешь?» А у меня душа не железо, тоже стонет.
Смотрит в угол, там, где отблеск от печки бегает по стене, и продолжает говорить, будто река через плотину: неделю не замечают, за спиной шепчутся, варенье прячут себе, день рождения жена проигнорировала. А ведь премию отдал, на платок потратил, ей в сундук швырнула, «лучше бы себе сапоги купил, в лохмотьях ходишь!»
Горбится он ещё сильнее, и кажется мне: вот теперь я вижу перед собой не мужика, а мальчишку замёрзшего, потерянного.
Дом этот, шепчет, руками сложил, каждое полено помню. Думал, гнездо… А вышла клетка. Сегодня с утра: тёща орёт «дверь скрипит, не дал спать, безрукий ты наш». Стою с топором, хотел петлю поправить А все смотрю: а не вешаться бы? Тьфу, пошёл прочь. Собрал котомку, хлеба да к вам. Переночую где, а завтра уеду на вокзал, не важно в какой город хоть в Ярославль, хоть в Нижний. Пусть одни живут, глядишь поймут, кого потеряли, когда поздно.
Тут уж я поняла беда бывает не только от болячки, но и от слова. Надо спасать.
Так, Иванович, приказываю, слёзы вытер, не по-мужски это. А подумал, что с ними будет, если уйдёшь? Аграфена одна всё хозяйство на ней? Мать её, с больными ногами, кому нужна? За них отвечаешь.
Он глухо смеётся, губы искривляются:
А за меня кто ответ держит? Кто мне добрым словом отплатит?
Я пожалую, твёрдо говорю. Ну-ка слушай лечение: домой вернёшься. Молчать будешь. Ни на слово не реагировать, на стену смотри. Ляжешь голову на бок. Завтра я сама к вам пожалую, не переживай. Бежать тебя не выпущу.
Посмотрел он с сомнением маленькая искорка под седыми бровями. Допил чай, тяжело поднялся и в ночную вязкую темень ступил. Долго я ещё грела руки у печки, думала: может, не я доктор, а самое лучшее лекарство слово доброе, да отпущенное вовремя.
Утром, только-только заря зарумянилась, стучу к ним. Аграфена открывает лицо хмурое, глаза сонные:
Вам чего, Яна Никитична?
Степана смотри пришла, прохожу внутрь.
В избе сыровато, прохладно, печка еле теплится, Мария Карповна на лавке, в вязаной шали, смотрит исподлобья. Степан, как я учила, спиной к комнате, будто и нет его тут.
Да что его глядеть, как бык здоровый, дрыхнет, тёща шипит. Работать надо, а он лежит.
Проверила я его, как положено, но вижу боль-то не в теле, а в душе. Глаза у него тёплый мрак. Встала, взглянула женщинам строго:
Плохи дела, девки, совсем плоше. Сердце у него, как проволока стальная, на пределе. Ниточка тонка. Перетянешь лопнет, останетесь одни.
Они переглядывают: у Аграфены в глазах испуг, у Марии Карповны упрямство.
Да вы выдумываете! Вчера дрова лупил, щепки в потолок!
Вчера, отвечаю, а сегодня всё, до черты довели. Одно лекарство: полный покой. Ни работы. Ни крика. Ласка ему и забота. Будете ему, как редкий фарфор, опекать отвар шиповниковый да носки тёплые. Не ослушаетесь отправлю в городскую больницу, а оттуда, глядишь, не каждого возвращают.
Вдруг их затрясло страх проснулся: опора-то у них, как стена каменная исчезнуть может. И ужасно им это, хоть они ворчанье не бросят.
Аграфена, не говоря ни слова, подошла к Степану за плечо дотронулась. Мария Карповна только платочек побелела в пальцах теребит, но ругаться не стала.
Я ушла, оставив их наедине с тоской да совестью.
Как рассказывал потом Степан в доме воцарилась странная, хрустальная тишина. Все на цыпочках, разговаривают вполголоса. Аграфена ставит ему суп, молча уходит. Тёща крестит спину, как будто нехотя. И вот напряжение ушло.
А потом вдруг лёд стал таять. Утром раз Степан чует запах яблок с корицей. Любил их с детства мама пекла. Повернулся Аграфена яблоко чистит.
Кушай, Степанушка, говорит тихо, горяченькое.
И впервые он увидел в её глазах тепло, не раздраженье, нет.
А потом Мария Карповна подала ему носки толстенные, вязаные.
Не от простуды, ворчит, но уже не зло, сквозит от двери.
Лежит Степан и впервые за много лет чувствует себя живым. Нужным не из-за силы, а просто так.
Через неделю зашла ещё раз в избе тепло, запах хлеба по углам. Степан сидит за столом, Аграфена наливает ему молоко, тёща пирог подвигает. Уже не ругань, не гроза. Осталась будничная забота тонкая, как пар над кружкой.
Степан смиренно улыбается, и где-то в уголках его глаз свет пробивается. Аграфена отвечает робкой улыбкой, а у тёщи даже слеза блеснула на платке.
С той поры я их и не лечу: друг другу стали лекарством. Нет, не стали они сказочной семьёй. Иногда Мария Карповна прикоснется к старому да и ворчит, Аграфена голос повысит. А всё равно по-другому: буркнет и тут же чай заварит, плечо погладит. Научились видеть друг друга не домашнего работника, не силу грубую, а человека, усталого, но родного.
Иногда прохожу мимо вижу, как сидят на лавочке втроём: Степан мастерит что-то, женщины семечки лузгают, разговор ведут свой, деревенский, спокойный. И на душе у меня тихо, мирно, словно снег идёт за окном. Счастье оно не в словах, ни в подарках. Оно в аромате пирога, в шерстяных носках, в уверенности: ты дома, ты нужен. Тишина и забота вот моё лекарство.
Вот и думайте сами, милые мои, что лечит вернее: горькая пилюля или ласковое слово в нужный час? И не надо ли человеку до края дойти, чтобы понять, как дорого то, что имеешь…