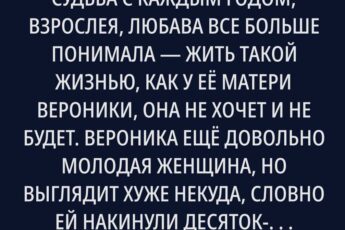В шестьдесят пять я обрела любовь — но на свадьбе брат покойного супруга вскочил со словами: «Не позволю!»
После смерти мужа мне казалось: жизнь остановилась. Мы прошли рука об руку сорок лет — вырастили сына и дочь, построили дом в Твери, пережили лишения, болезни, ссоры и радости. А потом его не стало — мгновенно, без прощаний. Инфаркт. Осталась я среди руин собственной жизни, будто половинка разбитой чашки — острая грань вместо тепла.
Годы ушли на то, чтобы перестать шептать «зачем» его фотографии. Хранила его футболки в комоде, включала его любимые пластинки Шаляпина. Дети жили в Москве, внуки звонили редко. Тишина в доме густела, как кисель — липкая, тяжёлая.
Пять лет спустя я научилась варить борщ на одного. Но однажды зашла в знакомую кондитерскую на Советской улице — ту самую, где мы с ним брали эклеры по воскресеньям. За столиком у окна сидел Сергей. Друг семьи, коллега мужа по автозаводу. Не виделись двадцать лет, а узнали друг друга сразу.
Говорили о прошлом, пили цикорий, смеялись над старыми историями. К вечеру в груди зажглась искорка — не радость, но облегчение. На следующий день он принёс мою любимую пастилу из Коломны. Потом были прогулки у Волги, вечера с чаем и «Ангара» по телевизору, его руки, аккуратно поправляющие плед на моих коленях. В шестьдесят пять я впервые задумалась о новом платье — сиреневом, с кружевным воротничком.
Когда Сергей предложил зарегистрировать брак, я металась месяц. Сын поддержал по телефону, а дочь Алина примчалась из столицы:
— Мамуля, ты же ещё огурчик! Хватит прятаться за прошлым.
Свадьбу устроили скромную — в столовой «У Елены». Пришли дети, внучка-студентка, пара подруг из хора. Надела кольцо матери — старинное, с гранатами. Сергей достал из гардероба парадный китель. Казалось, жизнь налаживается, как узор на морозном стекле.
И вдруг…
— Не позволю!
Голос прогремел, будкорабный гудок. За столом замерли. В дверях стоял Дмитрий — брат покойного, лицо белее майонезной заправки.
— Ты опозорила память Саши! — он швырнул салфетку на оливье. — Сорок лет были мужем и женой, а теперь — на тебе, подменила как перчатку!
Воздух спёрло. Сергей молча сжал мою ладонь — сухость его кожи напомнила папиросную бумагу.
— Дима… — начала я, но он перебил:
— Молчи! Ты даже портрет в зале убрала! Всё стёрла, как мел с доски?
Тут во мне что-то щёлкнуло — будто сломалась заржавевшая пружина. Встала, опираясь на спинку стула:
— А ты разве не стёр? — голос звучал чужим. — Три года таскал мне пироги, чинил крыльцо, смотрел как мальчишка… Ждал, когда я кинусь на шею от одиночества? Прости, но любовь — не очередь за хлебом. Её по талонам не выдают.
Гости затаили дыхание. Дмитрий схватился за косяк, будкорабль в шторм, выбежал, хлопнув дверью.
Сергей обнял меня, прижал к груди, пахнущей лавандой и сандалом.
— Всё, Галчонок, — прошептал. — Теперь только вперёд.
Плакала, смеясь — будто сбросила валенки, полные камней. Он не требовал выбросить старые письма или сменить фамилию. Просто водил в театр, учил пользоваться смартфоном, целовал морщинки у глаз.
Теперь знаю: осень жизни пахнет не нафталином, а яблочным штруделем и новыми книгами из библиотеки. А тем, кто шепчет «в её годы», отвечаю: счастье — как трамвай. Иногда ждёшь полвека, а потом подходят два сразу.