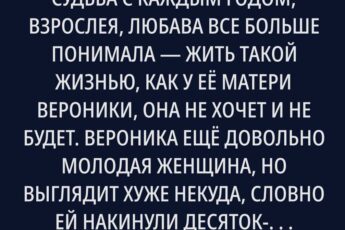Я обрела любовь в 65 — но на венчании брат усопшего супруга вскочил с криком: «Не позволю!»
Когда не стало Василия, мне казалось — жизнь остановилась. Прожили душа в душу сорок лет: подняли на ноги троих детей, отстроили дом в пригороде Казани, прошли через нищету девяностых, болезни, слёзы и шумные застолья. А потом он растворился — мгновенно, без предупреждения. Разрыв сердца. Ни последнего взгляда, ни шепота на прощание. Будто вырвали страницу из самой важной книги — и я осталась посреди пустоты с обрывками фраз.
Годами жила как во сне. Шепталась с портретом на комоде, спала, завернувшись в его промасленную телогрейку с автозавода. Дети разъехались по областям, внуки звонили раз в месяц. Тишина в доме гудела, как отключённый телевизор.
Пять лет спустя научилась варить борщ на одного. Как-то занесло в «Садко» — столовую у речного вокзала, куда мы с Василием бегали на чебуреки после смены. И там — словно кино. Николай Фёдорович. Сосед по цеху мужа, наш шафер на серебряной свадьбе. Не виделись двадцать лет, а он сидит, газету листает, седина в висках — точь-в-точь как отец детей крестил.
Улыбнулся, будто вчера расстались. Заказали компот, вспоминали бригаду, смеялись до слёз над старыми проказами. И вдруг — легче стало. Не горечь, а светлая грусть, будто ранний снег. Назавтра он принёс мою забытую перчатку. Потом зачастил с пирогами, читал Есенина под гитару, чинил покосившийся забор. В шестьдесят пять я краснела от его взгляда, как девчонка.
Когда Коля опустился на колено с кольцом, задрожала. Мысли путались: «А дети? А соседи? А что скажет золовка?» Но сын-военный буркнул в трубку: «Мамаша, ты же ещё огурцы солишь лучше любой из моих курсанток. Живи, пока сердце стучит.»
Свадьбу сыграли скромную — в доме, с блинами да самоваром. Надела сиреневый костюм, доставшийся от тёти Марфы. Гости поднимали стопки с рябиновой настойкой, внучка бренчала на балалайке. Казалось, время повернуло вспять.
И вдруг…
«Не дам на это благословения!»
Голос зятя, Петра Семёновича, прогремел, как выстрел. Все замерли. Брат Василия, седой как лунь, трясся от ярости:
«Срам! Ты же клялась перед иконой! Хочешь, чтобы брат мой из могилы встал?!»
Воздух гудел. Пальцы вцепились в краешек скатерти. Пётр после похорон стал как родной — дрова колол, пенсию приносил. А потом перестал заходить… Теперь поняла — почему.
«Не клятву нарушаю, а одиночество, — голос звучал чужо́. — Разве счастье имеет срок годности?»
«Так и запишем — брата твоего пустили по ветру!» — он ударил кулаком по столу, опрокинув солонку.
Коля медленно поднялся, поправил орден на лацкане:
«Пётр, ты же сам жене на сороковины валенки новые купил. Или вдовство — только для женщин закон?»
Тишина стала густой, как кисель.
Взглянула на зятя — и вдруг осенило. Словно пелена упала.
«Знаешь, отчего злишься? — выдохнула я. — Потому что три года ждал, когда я к тебе в хату за хлебом приползу. А я выбрала того, кто не торгуется за чужую память.»
Он поблёк, словно подтаявший снеговик. Хлопнул дверью, сбив бабушкин половичок.
Стояла, слушая, как тикают ходики в прихожей. Не страшно. Не стыдно.
Коля обнял за плечи, пахнуло мятой и дегтем:
«Прощаемся с прошлым, Людочка?»
Кивнула, вытирая ладонью слёзы. Не от горя — от свободы. От понимания, что любовь — не граница, а мост. Что можно носить в сердце два имени — и ни одно не станет легче.
Сейчас мне шестьдесят восемь. За окном — Николай Фёдорович чистит дорожку, наш пёс Джек (бывший Барбос из приюта) таскает варежку. В шкафу висят два пальто — стёганое Василиево и кожаное Колино. Иногда кажется, они перешёптываются на вешалке, вспоминая, как я обоих ругала за разбитые тарелки.
Жизнь — она как матрёшка. Открываешь один возраст — а там, глядишь, следующий, ещё ярче расписанный. Главное — не бояться крутить её в руках.