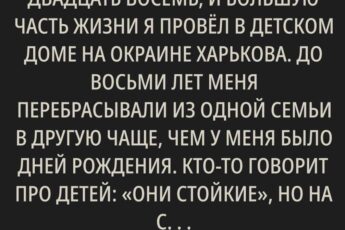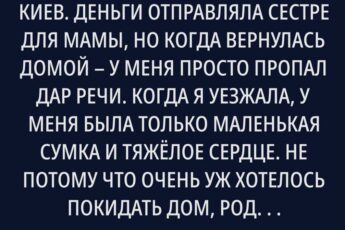В селе Морозовка, затерянном среди бескрайних рязанских полей, бабу Матрену не жаловали. Она сама людей избегала, и «избегала» — это ещё вежливо сказано. Ненавидела она их, и в этом сельчане были единодушны. Здоровьем Матрена могла потягаться с медведицей: плечистая, высокая, выше многих местных мужиков, заставляла их задирать головы, чтобы встретиться с ней глазами. Но взгляда этого никто не искал — на приветствия она не отвечала, бормотала что-то себе под нос и шла дальше, не поднимая взора. Вернее, не опуская — рост у неё был былинный.
Жила Матрена в центре села, в старом доме, который, как помнили старожилы, построил её дед. Дом окружал глухой забор, такой высокий, что заглянуть за него осмеливались единицы. Баба Матрена была скорой на руку. Однажды тёплым вечером подгулявшие парни из любопытства полезли на забор — посмотреть, как живёт эта затворница. Матрена, заметив их в окно, вышла на крыльцо с дедовским ружьём и, не говоря ни слова, выстрелила в воздух. С тех пор её двор обходили стороной.
Хозяйство у Матрены было немалое: куры, гуси, кролики, две коровы. Сельчане перешёптывались: «Зачем ей столько? Пенсии хватило бы, а она всё копит». Птицу и кроликов Матрена забивала сама, возила на базар в райцентр, где всё раскупали за день. Деньги прятала за пазуху и возвращалась в свой крепкий дом. Из коровьего молока делала творог по старинному рецепту — дорогой, но, поговаривали, в городе у неё были постоянные клиенты. Птица — упитанная, кролики — откормленные, яйца — крупные, всё честно. Матрена цену не сбивала, но товар разбирали быстро.
Когда в селе заговаривали о ней, старики вспоминали: Матрена всегда была угрюмой. Мать её умерла, когда та ещё ползала по полу. Остались они с отцом — таким же могучим и нелюдимым. Через пару лет он привёз мачеху из соседнего села, но та, прожив месяц, сбежала с узлом на станцию. Кто-то шептался, что из-за Матрены она не прижилась. Так и остались отец с дочерью вдвоём. Когда Матрена подросла, отец уехал в город на заработки и пропал. Убили ли его, бросил ли дочь — никто не знал. Матрена осталась одна. Навсегда.
Замуж она не вышла. «Кто такую стерпит?» — судачили в селе. Годы шли, люди умирали, рождались новые, а Матрена словно застыла во времени. Даже седина её не тронула — голову всегда повязывала платком, из-под которого виднелись лишь тяжёлый подбородок, клювовидный нос и густые чёрные брови, словно вырубленные топором.
Однажды морозной ночью у соседей, Петровых, загорелся дом. Матрена, не говоря ни слова, пришла с багром и, пока пожарные ехали, помогала тушить огонь. Она так умело разбирала горящие брёвна, что дом потом собрали почти из старого леса — почти ничего не успело сгореть. Соседи благодарили, но Матрена лишь хмыкнула и ушла, не оглянувшись.
Когда Матрена умерла, в село приехала заведующая детским домом № 3, Анна Васильевна, с воспитательницами и десятком ребятишек. Сельчане, больше из любопытства, чем из скорби, толпой повалили в её двор. Там открылся идеальный порядок: курятник, клетки для кроликов, хлев для коров — всё как на картинке. В доме — чистота, но пустота. Стол, табурет, железная кровать с продавленной сеткой, старый шкаф с одной треснутой тарелкой, ложкой, ножом и кружкой без ручки. У печи — лавка, отполированная временем, а на полатях — аккуратно сложенная одежда. И всё.
На столе лежал конверт, подписанный твёрдым почерком: «Анне Васильевне Козловой от Матрёны Семёновны Беловой». Заведующая вскрыла конверт и прочла листок, вырванный из тетради. Позже она рассказала: двадцать лет Матрена каждый месяц переводила детскому дому деньги — немалые, они сильно помогали. В записке было написано: «Дом, хозяйство и всё имущество завещаю детскому дому № 3. Дети ни в чём не виноваты».
Сельчане молчали, глядя на пустой дом. Кто-то вспомнил, как Матрена, ещё девчонкой, сидела на берегу реки, глядя на воду, будто ждала кого-то. Кто-то шепнул, что отец её, может, и не пропал, а просто бросил её одну. А она, заковав сердце, всю жизнь несла эту тяжесть. И только детям, чужим и безгрешным, отдала всё, что копила.
Так и выходит: за грубостью иногда скрывается душа, которая просит лишь одного — чтобы её не судили по тому, что видно снаружи.