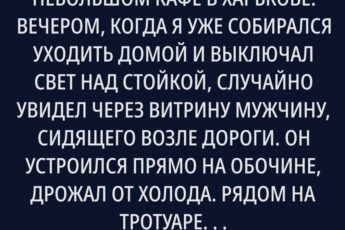Когда-то у меня, как и у всех, было две бабушки. Совершенно разные, но одинаково любившие меня. Их звали почти одинаково: Анна Фёдоровна, мамина мать, и Антонина Фёдоровна, отцова.
Первая жила в самом центре небольшого города, в просторной квартире, заставленной старинной мебелью и книгами. Отец называл её «городской штучкой» — утончённой, с лёгким оттенком высокомерия. Она появилась в моей жизни раньше. Антонина же, напротив, была деревенской, простой. Мама посмеивалась: «Три класса образования — что с неё взять?» Отец поправлял: «Не три, семилетка!» Она переехала к нам, когда я пошёл в шестой класс.
В семь лет Анна Фёдоровна сильно заболела. Мама оставила работу и перебралась к ней, чтобы ухаживать. Мы с отцом остались в нашей скромной квартирке, купленной на дедушкины сбережения. Сначала нам было весело: отец курил дома, а я засиживался перед телевизором допоздна. Но вскоре нам наскучило. Папе надоело готовить, мне — есть сосиски. В итоге мы тоже переехали к бабушке. Думали — ненадолго, но остались навсегда: на одну зарплату не выжить, и квартиру мы сдали.
Пока бабушка болела, я старался вести себя тихо. Её жилище казалось мне загадочным: тёмные кладовки, высокие шкафы, плотные шторы, за которыми я прятался, играя часами. Но иногда перебарщивал.
— Уберите этого сорванца! — кричала бабушка. — Почему его не воспитывают?
— Вот и воспитывайте, — огрызался отец.
— И воспитаю! — грозилась она, но тут же ласково гладила меня по голове.
И воспитала. Меня отдали в школу, а она решила учить меня музыке, убеждая, что у меня идеальный слух.
— Хоть бегать, как дикарь, перестанет, — ворчала она.
Я с тоской играл гаммы на пианино, отсчитывая минуты до конца урока. Отец же направил мою энергию в другое русло — записал меня в секцию самбо.
— Вы калечите ребёнка! — возмущалась бабушка. — У него талант, а вы…
— А вы спросили, хочет ли он вашу музыку? — парировал отец.
Я не хотел ни музыки, ни самбо. Вообще не знал, чего хочу.
Когда бабушка поправилась, мама вернулась на работу, а я остался на её попечении. Так прошёл первый класс. Начались споры насчёт лета: куда меня пристроить, чтобы бабушка отдохнула. После долгих дебатов меня отправили в деревню к Антонине Фёдоровне.
Я боялся. Мама пугала её «семилеткой», Анна — деревенской грязью, жирной едой, рекой, где я утону, грибами, которыми отравлюсь, и лесом, где меня съест волк. Но деревня оказалась чудом. Бескрайние поля, пруды, тёмный лес на горизонте. Куры, гуси, коровы — всё, что я видел только в книжках. Местные ребята, по бабушкиной просьбе, взяли меня в свою компанию. Носки, аккуратно уложенные мамой, так и пролежали в чемодане — все бегали босиком, не боясь ни грязи, ни коровьих лепёшек.
Антонина была полной противоположностью Анны. Тихая, с доброй улыбкой, она смотрела на меня так, что у меня перехватывало дыхание. Невысокая, круглолицая, с морщинками и ямочками на щеках, она пахла свежим хлебом и молоком. «Птенчик мой, худенький», — приговаривала она, обнимая меня. Еда была простой, но вкусной: парное молоко на рассвете, яичница с салом, драники со сметаной, пирожки прямо из печи. Я пил молоко, которое в городе терпеть не мог, и засыпал, счастливый.
Дни в деревне были свободой. Мы с ребятами ходили на рыбалку, собирали ягоды, парились в бане, где взрослые хлестали меня веником. По вечерам мы с бабушкой сидели на крыльце, отмахиваясь от комаров. Она пела старинные песни, рассказывала сказки и истории о войне. Самое страшное — она потеряла четверых детей от голода и болезней. Я прижимался к ней, шептал, что люблю её и никогда не оставлю.
Лето пролетело как сон. При расставании бабушка плакала, просила прощения. Я клялся вернуться, но на следующий год попал в лагерь. Она писала письма — корявые, с ошибками, полные заботы: «Не похудел ли?» Я пытался отвечать, но слова не шли. Я злился на родителей, на Анну, представляя, как Антонина одна сидит на крыльце, напевая: «Во поле берёза стояла…»
И вдруг новость: Антонина едет к нам! Колхоз развалился, дом пришёл в негодность. Я кричал от радости: «У меня теперь две бабушки!» Все волновались, мама вздыхала: «Как уживёмся?» А отец шептал: «Теперь хоть поедим нормально».
Антонина приехала грустная, виноватая, снова просила прощения.
— Хватит ныть! — подбадривала Анна. — Поживём, сколько отведено.
— Прости, сватья, что в тяготы вам ввалилась, — плакала Антонина.
— Какие тяготы? Места всем хватит, — успокаивала её Анна.
Антонину поселили в моей комнате. Я радовался, но скрывал это, чтобы не обидеть Анну. Удивительно, но бабушки подружились. Анна, хоть и была «колючей», как говорил отец, старалась быть мягче. Они пили чай, размачивая карамельки, спорили, но без зла. Когда Антонина пекла пирожки, Анна ворчала, что это вредно, но тайком таскала их к себе. Все знали, но делали вид, что не замечают.
Анна подтрунивала: «Фёдоровна, отстриги свои космы, не в деревне!»
— Где это видано, чтоб старухи стриглись? — отвечала та, заплетая тонкую косу.
Иногда они выпивали.
— Сватья, по стопочке? — предлагала Анна.
— Давай, — соглашалась Антонина.
После рюмки они хохотали, вспоминая анекдоты про старость. Один я помню до сих пор:
— Как тебя зовут? Забыла.
— А тебе срочно надо? — и оба покатывались со смеху.
Они вечно теряли очки, ключи, записные книжки. «Фёдоровна, зачем я на кухню пошла?» — спрашивала Анна, а я смеялся, любя их больше всех.
Под их крылом я окончил школу, музыкалку и получил разряд по самбо. Откормленный и здоровый, я поступиЯ посмотрел на небо, усыпанное звёздами, и представил, как они обе смотрят на меня сверху, довольные тем, что их мальчик наконец-то нашёл своё счастье.