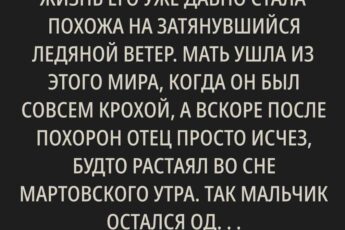Я вышла сегодня вечером из дома моего сына, оставив на столе еще горячее рагу и скомканный фартук на полу. Я не перестала быть бабушкой. Я просто перестала быть невидимкой в собственной семье.
Меня зовут Людмила Сергеевна. Мне шестьдесят восемь лет, и уже третий год я молча веду хозяйство у сына Ивана без оплаты, без благодарности и без передышки. Я та самая «деревня», о которой так любят говорить, но сегодня старшие в семье должны тянуть на себе всё и ни на что не жаловаться.
Я родом из тех времен, когда разбитые колени были частью детства, а уличные фонари означали пора домой. Когда я воспитывала Ивана, ужин был ровно в шесть. Ешь то, что поставили на стол или жди до завтрака. У нас не было психологических тренингов была ответственность. Это было не идеально, но вырастило детей, умеющих справляться с трудностями, уважать чужой труд и быть самостоятельными.
Невестка моя, Анастасия, не плохой человек. У неё добрая душа и она очень любит своего сына Жору. Но она всего боится опасается вредных добавок, осуждения в интернете, боится поступить «не так» и задавить Жорину индивидуальность.
Из-за этого страха восьмилетний внук стал хозяйничать в доме.
Жора сообразительный и добрый, когда ему выгодно, но он не знает, что значит услышать «нет», не превращая это в спор.
Сегодня была среда мой самый изматывающий день. Я приехала ещё в темноте, чтобы с утра отправить Жору в школу, так как и Иван, и Анастасия работают до ночи, чтобы оплачивать кредит за квартиру, в которой почти не живут. Постирала бельё. Выгуляла собаку. Разобрала продукты: дорогие эко-печенья стоят рядом с самой обычной гречкой, которую я покупаю на свою пенсию.
Я хотела, чтобы сегодня дома было уютно. Четыре часа я варила рагу по бабушкиному рецепту говядина, картошка, морковь, лавровый лист и перец всё как прежде, чтобы наполнилось теплоем и воспоминаниями.
Иван с Анастасией пришли поздно, не отрываясь от смартфонов, обсуждая срочные проекты. Жора растянулся на диване, экран планшета освещал его лицо, он смотрел, как кто-то из-за границы кричит о новой игре.
«Ужин готов», сказала я, ставя блюдо на стол.
Иван сел, не посмотрев. Анастасия сдвинула брови:
Мы хотим меньше есть красного мяса, сказала тихо. И морковь, это точно эко? Помнишь, у Жоры аллергия
Это еда, ответила я. Настоящая.
Иван позвал Жору. Ответ донёсся с дивана:
Нет! Я занят!
В мои годы экран бы тут же погас. Но сегодня никто даже не шелохнулся.
Анастасия пошла уговаривать. Слышала её обещания, торг, одобрение. Жора, не отрываясь от планшета, подошёл, посмотрел на еду и оттолкнул тарелку:
Фу, невкусно! Я хочу наггетсы!
Иван промолчал. Анастасия пошла к морозилке.
Тут во мне что-то надломилось не злость, а тоска.
Сядь-ка, сказала я.
Она замерла.
Пусть поест, что приготовлено, или пусть идёт не голоден, я старалась говорить спокойно.
Иван, наконец, поднял глаза:
Мам, не начинай, мы и так устали. Не надо его травмировать.
Травмировать? спросила я. Ты думаешь, если он не получит наггетсы это травма? Ты учишь его, что все крутится вокруг удобства одного человека. Чужой труд не считается.
У нас сейчас мягкое воспитание, холодно сказала Анастасия.
Это не воспитание, вздохнула я. Это капитуляция. Вы боитесь, что он расстроится, и потому поклонились ему в ножки. Я здесь не семья я вас обслуживаю.
Жора закричал и бросил вилку. Анастасия кинулась его обнимать и тихо сказала:
Бабушка просто нервничает.
В этот момент я поняла всё.
Я развязала фартук, аккуратно сложила его рядом с не тронутым ужином.
Ты права, сказала я. Я действительно нервничаю. Я смотрю, как мой сын становится гостем у себя дома. Как ваш ребёнок растёт без границ. Как меня здесь не уважают.
Я взяла свою сумку.
Ты уйдёшь? спросил Иван. Ты ведь завтра с Жорой остаёшься
Нет, ответила я.
Ты не можешь просто так уйти.
Могу, кивнула я.
Я вышла в тишину двора.
Ты нам нужна, прозвучал голос Анастасии. Семья же должна помогать.
Семью держит уважение, сказала я. А это не семья. Это сервис, который закрылся.
Я ехала, пока не увидела парк. Остановилась, открыла окно, вдохнула запах свежей травы и сырости.
И вдруг увидела то слабое золотое мерцание в мокрой траве.
Светлячки.
Я раньше ловила их с Иваном, когда он был маленьким. Мы любовались, а потом выпускали учили, что прекрасное не держат в клетке.
Я долго смотрела на их танец.
Телефон гудел. Сообщения о вине, обидах, попытки вызвать жалость.
Я не отвечаю.
Мы перепутали: давая ребёнку всё, мы теряем себя. Меняем живое общение на экраны, строгость и заботу на удобство и страх быть «не любым». А ведь без труда и границ не вырастают сильные люди.
Я настолько люблю внука, что готова позволить ему испытать трудности.
Настолько люблю сына, что разрешаю ему ошибаться.
И впервые за много лет позволяю себе тишину, тёплый ужин и светлячков на воле.
Деревня закрыта на ремонт.
Когда откроется вновь, вход будет только по уважению.