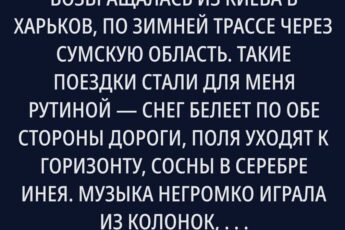**Дневник. 12 октября.**
Сегодня Людка смеялась, когда я разрыдался.
— Ну хватит реветь, как дитя малое! — резко бросила она, отворачиваясь от плиты, где варился борщ. Ложка в ее руке звонко стукнула о край кастрюли. — Что за истерику закатил?
Я сидел за столом, закрыв лицо ладонями. Плечи тряслись, а между пальцев сочились мокрые дорожки.
— Людк, ну как ты не поймешь… Это же мама… — прохрипел я.
— Мама-мама, — передразнила она, с размаху ставя кастрюлю на стол. — Восемьдесят три года — не шутка! Кому-то и до шестидесяти не дожить.
Я поднял на нее глаза — красные, опухшие.
— Как ты можешь? Она же тебя, как родную…
— Как родную, — фыркнула Людмила. — Особенно когда учила, как мне щи варить и Алешку воспитывать. Тридцать лет ее нравоучений терпела.
Она села напротив, наложила себе полную тарелку и принялась есть с аппетитом. Хоть бы что — а мы ведь только что с похорон.
— Хватит убиваться, — сказала она, отламывая кусок хлеба. — Мертвых не воскресишь. Лучше подумай, что с ее квартирой делать. Продавать надо, пока рынок не просел.
Я вскочил так резко, что стул грохнулся на пол.
— Ты совсем рехнулась?! Мать еще в земле не остыла!
— А когда тогда? Через год? Через пять? Квартира пустует, а коммуналка капает. Надо практично смотреть на вещи, Витек.
Я схватился за голову. Эти дни казались кошмаром. Мама умирала долго, мучилась. Я каждый день ездил в больницу, держал ее за руку. Людка же ни разу не пришла. То голова болит, то простуда, то работа.
— Я к себе, — пробормотал я, выходя из кухни.
— Куда «к себе»? Садись есть, борщ остынет!
— Не лезет.
— А зря. Горевать — тоже силы тратить надо.
Я вышел на балкон. Октябрьский ветер сразу обжег лицо. Внизу, во дворе, кричали ребятишки — жизнь шла своим чередом. А во мне все оборвалось.
Мамы не стало. И вместе с ней исчезла последняя ниточка в детство, в то время, когда я был для кого-то действительно важным. Людка никогда этого не понимала. Для нее свекровь была обузой.
Скрипнула дверь.
— Витек, заходи, замерзнешь, — она протянула мне чашку чая. — Выпей горячего.
Я взял дрожащими руками.
— Скажи честно… ты хоть чуть-чуть ее любила?
Людка пожала плечами.
— Любила, не любила… Какая разница? Жили же как-то.
— Как-то, — повторил я.
Она прищурилась.
— Ты чего это? Наша жизнь тебе не нравится?
— Не знаю, — честно сказал я. — Сейчас вообще ничего не знаю.
Мы постояли молча. Она куталась в халат, я пил чай мелкими глотками.
— А помнишь, как она тебя пирогам учила? — вдруг спросил я.
— Помню. Надоедала: то тесто не то, то начинку пересолила.
— А как радовалась, когда Лешка в первый раз «бабуля» сказал?
— Ну, все бабушки так радуются.
Я поставил пустую чашку на перила.
— А в прошлом году, когда она с воспалением в больнице лежала… Ты ведь передачи носила?
Людка замолчала. Потому что не носила. Носил я.
— Пойдем в комнату, — сказала она. — Холодно.
Вечером пришел Леха с Катей. Смущенные, растерянные. Для их поколения смерть — что-то далекое.
— Пап, как ты? — обнял меня сын.
— Да так…
— Бабулю жалко. Она была золото.
— Была, — к горлу снова подкатил ком.
Катя переминалась с ноги на ногу.
— Виктор Петрович, примите соболезнования…
— Спасибо, дочка.
Людка вышла с подносом.
— Садитесь, чай пить будем. Торт купила — «Прага».
— Мам, может, не сейчас? — осторожно сказал Леха.
— А когда? Жизнь-то не остановилась.
Она разложила торт по тарелкам — деловито, будто обычный семейный ужин.
— Я тут подумала, — сказала она Кате. — Вам бы бабушкину квартиру взять. Вы же съемную снимаете.
Леха с Катей переглянулись.
— Мам, рано еще…
— Почему рано? Район хороший, метро рядом.
Я встал, хлопнув ладонью по столу.
— Людка, хватит! Только что похоронили, а ты уже дележку затеяла!
— Витек, при детях-то! — она даже бровью не повела. — Я просто практические вопросы решаю.
— Практические! — я едва не сорвался на крик. — У тебя одни практические вопросы на уме!
Она сжала губы.
— А что, по-твоему, надо? Рыдать сутками?
— Помянуть человека нормально! Почтить!
— Помянули уже. И на кладбище, и дома. Хватит.
Леха встал, взял меня за плечо.
— Пап, успокойся…
— Да вы ничего не понимаете! Никто!
Я выбежал в коридор, прислонился к стене. Из кухни донесся голос Людки:
— Маменькин сынок. Всегда был.
Даже сейчас.
Я лег в кровать, не раздеваясь. В голове стучало. Вспоминал, как мама шептала перед смертью:
— Вить, ты только Людку не обижай. Характер у нее такой…
До последнего она оправдывала невестку. А та даже проститься не пришла.
Дверь приоткрылась — Леха.
— Пап, можно?
— Заходи.
Он сел на край кровати.
— Мне тоже грустно.
— Знаю, сынок.
— Помнишь, как она нам сказки рассказывала? Голосом таким…
— Помню.
— А пироги… У мамы так никогда не получалось.
Я посмотрел на него.
— Лех, а почему Людка такая… холодная?
Он задумался.
— Люди разные бывают. Кто-то чувства наружу выплескивает, кто-то в себе держит.
— Но ведь горевать же надо?
— Надо. Но у мамы… она всегда особенная.
Из кухни донесся смех.
— Слышишь? — прошептал я.
— Может, просто разговаривают…
— Нет, смеются. В день похорон.
Леха встал.
— Пап, нам завтра рано…
— Иди, сынок.
После их ухода в квартире стало пусто. Людка мыла посуду, напевала. Я лежал и слушал. ЗвИ тогда я понял, что единственный человек, который действительно понимал меня, лежит под холодной землей, а я остался в доме, где меня давно никто не слышит.