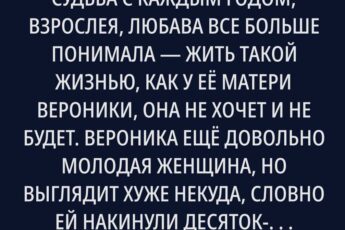Давным-давно, в памяти старой, все соседи ведали, что Семён — безрукий медведь косолапый, то баран бестолковый, то козёл упрямый, а то и пёс ленивый. Прозвище менялось, словно мера его провинности. Один ляп — один гнев супруги, другой — другой, а ярость её и вовсе величины непостоянной.
А вот для мужа Алевтина была то Зайчиком, то Лисичкой, то Солныншко Лучезарное, то Ласточкой Бережной. Услышав её крики, люди дивились, когда же баран тот поддаст Зайчику как следует, но припоминая, что он же и «скотина безрогая», заключали: да никогда. Мог Семён прикинуться глухонемым, на крики да попрёки не отвечать. Вот эта самая тишина да безмятежность перед бурей её бешенства и продлевали женский припадок. Осипев кричать, Алевтина уходила из избы. Комок злобы душил, перекрывая горло. Лицо пылало багровыми пятнами, руки тряслись, голос хрипел. Рыдать хотелось, да слёз не бралось. А Семён, вслед уходящей, тихонько взывал: «А ты куда, Зайка?»
Первые годы после венца жили ладно, тихо да мирно. Кто б сказал тогда Алевтине, что спустя годы тишина сменится перебранкою да скандалом – ни за что не поверила бы. Выходила-то за милого человека, в ком души не чаяла, а не за козла какого! Трудился Семён сварщиком, к вину да табаку не прикасался, спокойный, как медведь в берлоге почивающий. Всё его радовало, всё устраивало. Жёны тех, кто водку глушил да по бабам шлялся, ставили Семёна в пример, вот и гордилась им Алевтина. Детей заводить порешили сперва погодить. Надо баньку построить, гараж смастерить, машину купить. Совхоз избу выделил, ну а Алевтине хотелось благоустроить её на славу.
Семён же копался ужасно, а то ли просто ленив был. Работа его поджидала, а он, усмехаясь, говаривал: «Переделать всё не переделаешь. Затяни срок – глядишь, дело само рассосётся. Чего торопить-то? А уж коль охоты нет, так и браться не след. Не труд, а сам себя в кабалу гнать». Желания быть первым в работе у него и в помине не было. Алевтина же за любое дело бралась споро, и справлялась не хуже Семёна: могла огород перекопать, дом покрасить, траву скосить, дров для бани наколоть.
Слава Богу, изба была со всеми удобствами, не то что воду ведрами таскать. Ей самой сподручнее и скорее было дело сделать, чем мужа в работу раскачать. Раз как-то ночью проснулись от страшного грохота на кухне. Плитка, что Семён выкладывал, съехала сверху донизу. Назвала Алевтина его безруким и наутро мастера нашла с руками верными.
А то как-то вернулась с работы да и не узнала палисадник: весь коровой соседской изрыт, цветы поломаны – Семён калитку на запор не запер. С каждым днем медлительность, леность да безразличие мужа Алевтину злили пуще.
Рядом с ними стоял дом осиротевший. Старички давно померли, наследники сначала траву изредка косили, да потом усадьбу совсем забросили. Как-то раз к тому дому иномарка дорогая подкатила. Это внук деда Никифора приехал с женой-малышом на ПМЖ. Долго в Тюмени на буровых корпел, там и оженился, а нынче на родину вернулся. Тюмень ведь – заработки, а жить-то лучше на земле родимой. Олег – так звали внука – стал старый дом перекраивать. Вот тут-то он и показал Алевтине, что значит труд из рук не выпускать. Класс строителя, сварщика, электрика явил, и рядом жены его не видать. Она лишь по хозяйству хлопотала да за ребёнком ходила.
Поглядывая на соседа, Алевтина всё пуще на мужа злилась. Устала быть сильной, хотелось слабости, нежности. Не раз намекала, подсказывала Семёну работу мужицкую, да только не лидер он был в делах, ему и на втором плане в семье – хорошо. Уставшая Алевтина злилась чаще, переходя на брань. Люди шипели: «Баба заевшаяся!», его жалели: «Мужик загнанный». А она уж и о разводе задумывалась – всю жизнь возом хлебнула, сил невпроворот. Чаще ставила соседа в пример. Семён же улыбался да отшучивался: «У чужого барана рога круче, шерсть гуще».
Никак не мог Семён намёка жениного про развод уразуметь. Иные жёнки с гулящими, пьяницами мужиками маялись, а она – не битая, не проклятая, любимая, а вот развода захотела. Он ведь обид не чинил, делай, что пожелаешь, иди куда
И с тех пор, видимо-невидимо, Ирина больше не корит своего Ивана, а спокойно плывут они по течению, как две лодочки привязанные — хотя и кособокие, зато свои, родные, и потекли их дни размеренно и тихо, как полноводная река когда-то помнится.
Соседи и их неоднозначные мнения о странном человеке