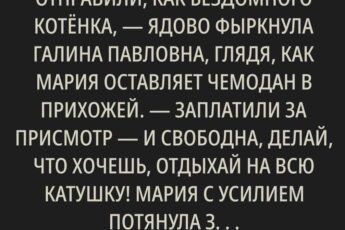Старик уходил… Бабка знала об этом, чувствовала каждой клеточкой своей старой души, приросшей к нему за долгие годы.
Внешне держалась спокойно. А внутри — страшно. Хотя понимала: без деда долго не протянет. Ну как? Как жить без Санечки, родного, такого близкого и вдруг такого далёкого? Снега хочется, а вам?
Кто говорит, что чувства со временем остывают? Это в ваших умных книжках написано? Не верьте! Ничего не остывает. Душа всё так же трепещет, как птичка, от родного голоса. Шутка ли — шестьдесят лет вместе!
Срослись, сплелись, сцепились так, что и минуты друг без друга не могли. Как она его одного отпустит? Как останется тут одна? Да и зачем? Без Сани — какая жизнь?
Так размышляет бабка, перебирая старый сундук. Раскладывает вещи по кучкам: это — детям, на память. Пусть помнят отца. Это — соседям раздать. А вот эта, самая маленькая кучка — себе. Пока не ушла, будет смотреть, вспоминать Саньку.
— Гаааля, Гаааля! — доносится слабый голос старика.
— Бегу, бегу, родной! — Бабка поправляет юбку, заглядывает за занавеску. — Проснулся, Сань? Блинчиков хочешь?
— Гаааля… — хрипит старик, бессмысленно водя глазами по потолку.
— Ну-ну, милый, я тут, тут… — берёт его руку, когда-то широкую, как лопата, а теперь худую, как птичья лапка. — Что, родненький? Я с тобой!
— Галя… прости… прости, Галчонок…
— Да что ты, что ты…
— Не любил я тебя… — старик хрипит. — Глупый был… Вернуть бы, всё бы иначе сделал, Галя…
— Ну брось, Сань. Любил, по-своему, но любил. А то бы мы с тобой шестьдесят лет вместе прожили?
— Гаааля, дети…
— Едут, Сань, едут! Я Нине-почтарке телеграммы наказала — и Мишке, и Толе, и Серёге, и Любке. К вечеру все будут. Ты поспи, а я тебе бульончику сварю…
— Не надо… — шепчет. — Дай руку, посиди со мной. Прости, Галя!
— Да я и не серчала, Сань. Ты меня прости — может, не влезла бы в твою жизнь, как репейник, может, всё иначе сложилось бы…
— Нет, Галя… — качает головой старик. — Нет… судьба…
Мутная слеза катится по его морщинистой щеке, теряется в складках старой кожи.
К вечеру съехались дети — сами уже седые.
Бабка смотрит на них.
Мишка, старший, весь белый, как лунь. Важный, солидный — таким и в детстве был. Бабка его побаивается: Мишка профессор, столичный.
— Миш, сынок, седой уж!
— Ну мам, годы берут своё. Я ведь уже дед, ты не забыла, что прабабкой стала? — пристально глядит.
— Как же, как же! Вот фотки — твоя Танька прислала, под стеклом всё хранится.
Показывает: слева — старые снимки, вся семья, они молодыми, родители, дядя Егор, брат Федька, что с войны не вернулся — ни похоронки, ничего… Бабушка с дедом, Санины тётки-дядьки. Брат его, Серёжа — ой, весельчак был! Как заиграет «Барыню», ноги сами в пляс идут!
А здесь — новые фото, стекло Дмитрич, сосед, вставил — внуки, правнуки.
— Так что, Миш, рано списывать!
— Да я и не списываю, мать. Пока вы живы — мы всё дети…
Толик подмигивает:
— Браток, а может, на рыбалку?
— Можно? — поворачивается к матери.
— Конечно! — улыбается бабка.
— Батя, ну хватит валяться! — это уже Серёга, младшенький. В джинсах, подтянутый, загорелый — на кораблях плавает, по заграницам. Всё им с отцом гостинцы шлёт, а они складывают «на потом».
Только телевизор японский в ходу — вся деревня у них кино смотрит после «Времени». Зимой-то больше нечего делать. Потом неделю обсуждают.
Старик слабо улыбается: Серёга — любимчик, такой же заводной, как он сам в молодости.
— Серёженька, сынок… Миш, Толь… А Любка где?
— Я тут, пап! — выходит из-за братьев. Маленькая, худенькая — вылитая мать.
— Дочка… Простите меня, детки…
— Да брось, батя!
— Отец, ну что ты…
— Простите… — шепчет. — Любви не додал…
— Да ты что! Благодаря вам с мамкой мы людьми стали. Ты давай, вставай! Толик говорит, баню подлатать надо, Любка с мамкой пельменей налепят, а мы после бани по стопочке…
Старик тепло улыбается.
Долгую жизнь прожил. Всё корил себя — живёт с нелюбимой. А к той, к желанной, так и не подошёл. Топтался у её окон, десять кисетов скурил — стоял под тополем, ждал…
Чего ждал? Может, думал — сама догадается, выйдет, за руку возьмёт. На вечёрках переглядывались, рядом сидели — дух захватывало! Почему не подошёл? Почему не провёл?
Дождался — другой пригласил на танец, проводил, женился. Саня был на той свадьбе. Невеста сидела несчастная, глаза с него не сводила.
Эх, думал потом — украсть бы её, увести! А он напился с Ванькой Лысым, подрались. Помирились, а любовь потерял.
На Гале женился — она на него, как на чудо, смотрела. Знала, что не любила. Прожила с ледышкой. А потом, когда дети разъехались, понял Саня — без своей Галки не может! Стыдно стало за её загубленную молодость.
В кино идёт — впереди шагает. Галя — сзади. А ей ведь тоже хотелось под руку с мужем пройти, чтобы все видели: «Галя с Санькой»… Никогда так не говорили.
На гулянках — не рядом сидели. А она любила.
Эх, сказал бы ей лет на тридцать раньше, что тоже полюбил — не так, как ту, яркую, но полюбил…
Нет. Гордость мешала. Или стыд?
Что мешало подойти к Стёпке тогда? Что мешало жене хоть раз сказать: «Люблю»?
Оттого и детям любви не хватало — старался помочь, защитить, чтобы не чувствовали.
— Галя… — зовёт слабым голосом.
— Я тут, род— Галка… — прошептал старик и закрыл глаза навсегда.