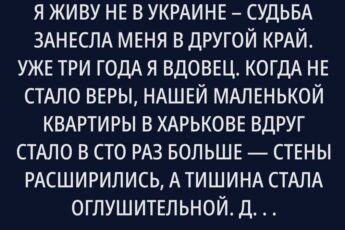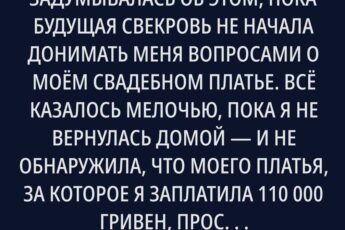Пётр дрожал на заснеженной лавочке в сквере под Нижним Новгородом, кутаясь в поношенный ватник. Метель выла завываниями степного волка, колючий снег бил в лицо, а кромешная тьма поглощала остатки надежды. Он тупо смотрел на узоры инея, пытаясь осмыслить, как хозяин двухэтажного дома из красного кирпича оказался выброшенным на помойку жизни.
Всего сутки назад он стоял на пороге родной избы, где когда-то нянчил на коленях сынишку. Но Дмитрий, его кровь и плоть, смотрел теперь пустыми глазами тракториста на чужого деда.
— Батя, нам с Людкой тесно в трёх стенах, — буркнул он, переминаясь с ноги на ногу. — Тебе бы в соцприют определиться, али комнатушку снять. Пенсия-то у тебя как у шахтёра…
Невестка Людмила молча ковыряла ногтем узор на занавеске, будто решалась судьба старого чайника.
— Да я ж… топил печь, пока ты в армии служил… — Пётров голос сорвался не от мороза, а от кома в груди, что душил сильнее удавки.
— Сам меня в наследники записал, — Дмитрий швырнул папку с документами на лавку, где когда-то резались в дурака. — Росписи твоей хватит.
Старик понял тогда — кончилась жизнь.
Не стал упрашивать. Какая-то жгучая обида заставила его швырнуть на пол ключи и выйти в кромешную январскую тьму.
Теперь он сидел, обнимая колени, и думал о том, как двадцать лет назад нёс на руках сопящего Митюшку в больницу с воспалением лёгких. Холод сковал ноги, но сердце болело пуще обморожения.
Вдруг что-то тёплое лизнуло ему ладонь.
Перед ним сидел пёс — не дворняга, а крепкий, лобастый метис с умными глазами-изюминками. Тявкнув разок, он схватил зубами полу пиджака и потянул к переулку.
— Отвяжись, шатун! — Пётр попытался оттолкнуть животное, но пёс упрямо тащил его мимо заиндевевших гаражей.
Они вышли к покосившемуся домику с резными ставнями. На крыльце, обметая снег с валенок, стояла круглолицая женщина в цветастом платке.
— Валетка! Опять бродяжничаешь?! — начала она, но, разглядев посиневшего старика, ахнула: — Батюшки! Да вы же в предобморочном!
Пётр хотел пробормотать отказ, но ноги сами понесли его за порог.
Очнулся он под стёганым одеялом, вдыхая аромат щей с квашеной капустой. На печке потрескивали берёзовые поленья.
— Живой? — над ним склонилось доброе лицо с морщинками-лучиками вокруг глаз. — Меня Аграфена звать. А вас?
— Пётр… Семёнович…
— Ну что ж, Пётр Семёнович, — она по-хозяйски хлопнула ладонью по столу, — мой Валет только достойных в избу приводит. Оставайтесь, покуда метель не стихнет.
Он остался на неделю. Потом на вторую. А когда Аграфена узнала про поддельную дарственную, собрала в райцентр знакомого юриста.
Через полгода суд вернул дом. Но Пётр, глядя на фотографию Митьки-первоклашки над кроватью, махнул рукой:
— Пущай живут. Мне тут с Груней да Валетом сытнее.
— И правильно, — кивнула та, ставя на стол горшок с горячей картошкой. — Дом там, где сердце греется.
Пётр гладил упитанного пса, слушая пересуды соседок за стеной. Жизнь, оказывается, только начиналась в шестьдесят пять — с самоваром по вечерам, с бабьим смехом на огороде, с преданным взглядом тех, кто не предаст.