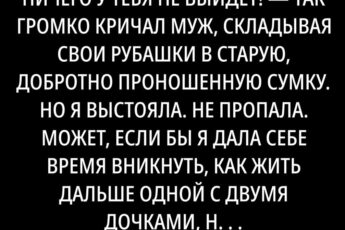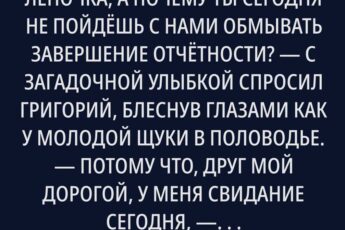Женские судьбы. Марьяна
Давным-давно, в глухой русской деревне под Тамбовом, погибла у Марьяны её единственная опора бабка Настасья. Осталась она одна, словно дерево без корней. Не взлюбила её свекровь, Ульяна, да и другим домочадцам не по нраву слишком худой казалась, неповоротливой, да и дети, мол, от такой не заведутся. Всё Марьяна терпела, палец о палец не ударив возразить, только когда тяжко на душе было, убегала к бабке успокоиться, душу излить да слезами умыться.
Настасья была ей роднее всех: и за отца, сгинувшего без вести, и за мать, что от чахотки в могилу ушла, а Марьянка на руках старушку досматривала. Как Данила её увидал богатый, статный, с крепким домом у самого леса так и пропал. Не послушал ни родни, ни матери полюбил сиротку без рода и племени, взял в жёны, себе в сердце.
Матушке Даниловой, Ульяне, всё не нравилось: не та невестка, гулящая, нерадивой считала, всё «нищенка, чужая кровь», шептала за спиной семьи.
Старалась Марьяна, как могла: по дому как белка прыгала, за хозяйством бросалась за всякую работу, не угодишь ей, и всё тут. Пока Данила дома терпимо, а случись муж уедет в город по делам, так свекровь становится настоящей каргой.
Терпи, Марьюшка, шептала старушка Настасья, обнимала внучку: Бог терпел и нам велел…
Так и жила Марьяна. Как слёзы подступят к бабке, волосы на коленях своих погладит, молитву над ней шепчет да слезу скупую смахнёт.
Но бабки не стало. Ушла ночью, тихо, как свеча догорела Осталась Марьяна одна-одинёшенька ни родни, ни души понимающей. Кто говорит, что время лечит напрасно: боль, как трещина, не зарастала, сердце всё помнило родные бабкины ладони.
А в доме Даниловом страсти только сильнее кипели. Свекровь не давала проходу третий год живёт бездетная, пользы нет, только хлеб зря жрёт. За глаза «дармоедкой» называла, с утра до вечера шпыняла.
Был у Марьяны страх знала, как Ульяна нашёптывала сыну: не будет детей, «ручница» девка, сглазили-де тебя, сынок. Данила не верил, да тяжёлая молва по деревне быстро ползла.
Но когда Данила домой возвращался всё иное: увидит жену, взглянет в глаза голубые, и весь тяжёлый день с плеч, и в голову ничего не идёт. Носил на руках, как золото своё берег.
Может, по молитвам Марьяны, а может, по великой любви только забеременела она наконец. Авдотья только пуще разъярилась: теперь и вовсе днём и ночью на жену ворчит, мол, живот надулся и работы не желаешь.
Сидишь, будто барыня? шипела Ульяна. На дворе не царские палаты, воды натаскай, скотине дай, всё на мне! Если немощна давай убирайся, больных и дармоедок сыну не надо!
Молча брала Марьяна коромысло и вёдра, тащила по деревне все бабы дивились злющей свекрови: не пощадила даже беременную.
Наконец родила мальчика, только всё опять не слава Богу сын слабенький, худенький, ни силы, ни крика. Толи задыхался, толи синеет на руках сердце матери разрывалось.
И дитя такое же хилое не к добру, ворочала носом свекровь, только глядишь и до наследства не доживёт!
Марьяна только горестно глотала слёзы:
Не говорите так, маменька, ведь кровиночка он Данилке радость и опора!
Да мало ли что, кидала свекровь, кому нужен больной-то…
Не давала покоя своей плохой мыслью: дескать, помрёт младенец и жену можно посчастливее сыскать сыну, здоровую, с приданым.
Только Данила любил жену крепче прежнего, старался хоть чуточку облегчить её жизнь. Носил малого на руках, на груди согревал, а Марьяна тихо молилась да слёзы лила в подушку.
На christening младенца дали имя Всеволод. Никого не тужили, ждали счастья, но мальчик всё ни ростом, ни силой не креп. Даниле снова пришлось уехать по делам в tambov, значит жене остаться с младенцем и свекровью наедине. Вот тут Ульяна и оторвалась: и за водой гони, и дров наколоть, и за хозяйством приглядеть, и к ребёнку ночью вставать до изнеможения.
Малый всё чах, синел в колыбели, а сама Марьяна как свечка таяла. Холод на дворе поздняя осень, муж всё не воротится, а сердце болит, будто камень туда положен.
Даня и не спешит, вдруг изрекла свекровь зло. Может быть, на стороне другой кого встретил, здоровую, да позабористей.
Стали у Марьяны думы страшные, будто по капле сомнение в сердце вливалось. И так ей стало худо: и чем дальше, тем горше.
Сама не живёшь и сыну не даёшь, бубнит свекровь. Может, сделала бы милость ушла Пусть Данила новую семью завёл бы, а не загибался тут со слабыми и больными.
Плакала Марья сквозь слёзы, видя сына, что едва дышит, и сама будто с ума сходила.
Прошла недели две, выпал первый снег. Всё в душе замёрзло. Сил больше терпеть не стало собрала платочки, завернула малыша, взяла узелок, вышла из избы. Ульяна и бровью не повела думала только о сыне: «Пусть, может, теперь повернётся жизнь!»
Марья пошла в поле, вдоль чащи, да и в соседнюю деревеньку добралась к утру. Стыдно было проситься, но понимала: за ребёнка ответственность не бросит Бог, не оставит.
На колодце у самой окраины встретила женщину большую, румяную, с тяжёлыми вёдрами; та, только глянув, всё поняла взяла девушку к себе в избу.
Женщину ту Акулиньей звали. В доме у неё тепло, пахнет хлебом, травой душистой, печка потрескивает. Акулина сердце широкое, жилуев много встречала за свою жизнь. Ребёнка Всеволода распеленала, всплеснула руками: худенький, слабый, как воробушек.
Да только обессилела Марьяна и с печки не вставала трое суток. Очнулась ребёнка нет и Акулины не видно. Сердце кольнуло, бросилась искать, но тут Акулина с порога вошла и успокоила:
Не бойся, Всеволод жив-здоров. Я отнесла его к матери в чащу лечить, крепить. Меня кличут Акулина, а маменька моя Аграфена, знахарка местная, к ней всей деревней детей на исцеление носят.
Села Марьяна и рассказала всё, как на духу; боль в сердце излила, тоску по дому, обиды и несправедливости всё до капли.
Аграфену встретила потом в лесной избе. Старушонка мала ростом, но с глазами мудрыми: взглянет как будто всё твоё прошлое прочитает.
Ты не бойся, милок, сказала Аграфена. Сын твой жить будет. Хворь на него пришла оттого, что по кладбищенским дорожкам ходила беременной, да силища мёртвая к нему прилипла. Отошьмём напасть, вскорости румяный будет.
Так и случилось. Несколько дней провела Марьяна в лесной избе, пока Аграфена лечила сына. Вернулась в дом Акулины и тотчас счастье новое.
Дни шли. Всеволод креп и рос. Марьяна хозяйствовала при доме Акулины, чужой по крови, а по сердцу родной как вторая мать.
А в деревне родной Данила тем временем воротился домой. А там пусто, ни Марьяны, ни сына, ни даже пелёнок не осталось. Только Ульяна рыдает, мол, не уберегла ни невестку, ни внука.
Тяжко Даниле стало, словно мир перевернулся, и тьма на сердце села. Ни жив, ни мёртв. Зимой совсем затосковал, весной едва в себя пришёл. А попытки матери навязать свадьбу да новую невесту так озлобился, что старуха и сама в болезни слегла.
Не пережила Ульяна своих прегрешений летом от сердечной боли скончалась. Данила остался один-одинёшенек на всей земле, как дерево обрубленное. Мыши мысли точат сердце, и пришёл он однажды к болоту уж лучше с жизнью проститься, чем без любви и семьи маяться.
Да только Бог не оставил послышался из чащи голос знакомый, женский, тихий. Обернулся, видит Марьяна стоит на краю болота, зовёт его, слёзы и радость на лице. Метнулся к ней, хватайся из топи великой силой любовь удержала, болото отпустило.
Забираться стали в новую жизнь: Данила свою усадьбу продал, переехал к Марьяне да Всеволоду, зажил наконец, как давно мечталось мирно, в любви, при добром сердце Акулины и под покровом старой знахарки Аграфены.
Без следа заросла трава могилу Ульяны. Не вспомнит её ни один человек добрым словом; а счастье, что Данила да Марьяна нашли, стало жить в их доме многие годы, детям и внукам примером. Да не знал никто, где теперь душа той, что столько горя людям принеслаИ стали в доме новом песни вечерами звучать, малый Всеволод подрастал сильный и веселый, а Марьяна порой ночью смотрела в окно да шептала: Спасибо тебе, бабушка Настасья, что хранила да путь указала. А когда урожай собирали, всегда первый сноп несли Аграфене за здравие, и в семье долгие годы не знали ни горя, ни разладу, а только добро да ласку.
Пусть снег ложился пушистым покрывалом на крышу, пусть ветер гулял по полям в этом доме всегда находился уголок для путника, слово сочувствия для сирого и спасибо за хлеб-соль. Улыбка Марьяны стала теплее солнца, а Данила с сыном часто шептал жене на ухо: Если бы знал, что у счастья твои глаза разыскал бы тебя во сто раз трудней.
И говорили люди потом: нелёгкая у Марьяны доля была, а сердце у неё золотое, что может и чужого простить, и своё дождаться. Так и пошла в народе слава про женщину сильную: знала беду, да выбрала любовь. Ведь счастье всегда возвращается к тому, кто истово его ждёт.