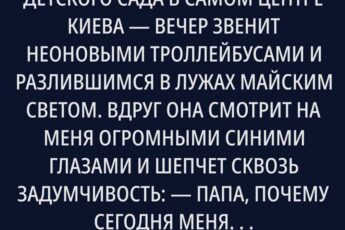— Туда не ходи! — рявкнула Антонина Васильевна, вытирая о фартук мокрые руки. — Сколько можно повторять!
Десятилетний Алёшка замер у приоткрытой двери, испуганно глядя на бабку. В глазах мальчонки читалось недоумение и обида.
— Ба, да что там такого? Я просто взглянуть хотел…
— Грязь одна! — Антонина Васильевна решительно подошла, захлопнула дверь и повернула ключ. — Иди лучше в телевизор смотри или с машинками играй.
Алёшка пожал плечами и побрёл в зал, но бабка заметила, как он украдкой оглядывался на заветную дверь. Она тяжело вздохнула, сунула ключ в карман. Опять начинается. Каждый раз, как внук приезжал на каникулы, повторялось одно и то же.
— Мам, чего ты его пугаешь? — вышла из ванной Людка, вытирая мокрые волосы. — Ребёнку же интересно.
— А тебе не любопытно? — резко бросила Антонина Васильевна.
Дочь замерла с полотенцем в руках.
— Мне… мне и так хорошо. К чему старое ворошить?
— Вот и правильно. И Алёшке не надо. Пусть лучше на улице бегает, а не по чужим углам шныряет.
Люда хотела возразить, но сжала губы. Она знала этот тон — спорить бесполезно. Лучше занять сына чем-нибудь другим.
Антонина Васильевна вернулась на кухню, поставила чайник. Руки дрожали, когда она доставала чашки. Двадцать лет прошло, а сердце всё равно сжимается, стоит только подумать о той комнате. О том, что там осталось.
После ужина Алёшка растянулся на диване с телефоном, Люда читала журнал. Бабка мыла посуду и краем глаза следила за внуком. Парнишка был смышлёный, наблюдательный. Чересчур наблюдательный.
— Ба, — вдруг спросил Алёшка, не отрываясь от экрана, — а чего у вас трёшка, а живёте вы в двух комнатах?
Антонина Васильевна выронила тарелку, та со звоном ударилась о раковину.
— Откуда ты знаешь, что трёшка? — осторожно спросила она.
— Да я же не слепой! Двери считать умею. Твоя спальня, зал, где я сплю, и вот та дверь. Всегда закрыта.
Люда отложила журнал, посмотрела на мать. Антонина Васильевна стояла к ним спиной, плечи напряжены.
— Там… старьё лежит, — тихо сказала она. — Тебе неинтересно.
— А можно посмотреть? Я аккуратно.
— Нельзя! — резко обернулась бабка. — И не приставай больше!
Алёшка вздрогнул, даже Люда удивилась.
— Мам, ты чего? — встала она. — Ты же на него никогда не кричишь.
Антонина Васильевна оперлась о мойку, провела рукой по лицу.
— Прости, внучек. Просто… устала я сегодня. Не сердись на старуху.
Алёшка кивнул, но недоумение в глазах не исчезло. Умный пацан. Чересчур умный.
Вечером, когда внук уснул, Люда подсела к матери на кухне.
— Мам, может, правда пора?
— Пора чего?
— Ну… разобрать наконец ту комнату. Двадцать лет прошло. Папы давно нет, а ты всё…
— Не смей! — Антонина Васильевна вскочила так резко, что стул грохнулся. — Не смей туда лезть!
— Мам, успокойся. Я просто думаю — нездорово так жить. Ты же мучаешься.
Бабка подняла стул, села. Руки опять дрожали.
— Не мучаюсь. Просто… мне так спокойнее. Знать, что всё на местах. Что ничего не тронуто.
— Но Алёша растёт, скоро ему своя комната понадобится. А ты что, вечно на диване его укладывать будешь?
— Успеется. Он ещё маленький.
Люда вздохнула. Она помнила ту комнату. Помнила, как выглядела она двадцать лет назад. Письменный стол, книжные полки, узкая кровать. И повсюду — следы жизни, оборвавшейся слишком рано.
— А помнишь, как он злился? — тихо спросила Люда. — Когда ты у него прибиралась? Кричал, что у него свой порядок, не трогать ничего.
Антонина Васильевна улыбнулась сквозь слёзы.
— Помню. Самостоятельный был. Всё сам. И тарелки сам относил, говорил — мужик должен за собой убирать.
— Ему всего семнадцать было, мам.
— Да, всего семнадцать… А казался взрослым. Во всём разбирался. Помнишь, как с отцом спорил о политике? Часами мог рассуждать, цифры называл…
Люда кивнула. Она помнила младшего брата, его смех, упрямство, мечты. Как он собирался в институт, строил планы.
— Мне иногда снится, будто он просто уехал, — прошептала Антонина Васильевна. — Что завтра придёт, дверь откроет: «Мам, чего закрыла? Я ключи забыл».
— Мам…
— Знаю, глупости. Но мне легче думать, что он в командировке. Долгой. А когда вернётся — всё будет как прежде.
Люда взяла мать за руку.
— Он не вернётся, мам. И комната не поможет.
— А что поможет? — всхлипнула бабка. — Что поможет забыть, как он в больнице лежал? Как врачи головой качали? Как я Бога молила, всё готова была отдать, лишь бы сын жил?
Люда молчала. Авария была глупая. Алёшка переходил дорогу, водитель не разглядел в темноте. Парень три дня в коме пролежал, так и не очнулся.
— А помнишь, — вдруг сказала Антонина Васильевна, — как он меня пельмени лепить учил? Говорил, я неправильно края залепляю, разварятся. Сам показывал, серьёзный такой стоял, руки в муке.
— Помню. А ещё свет забывал выключать. Ты ругалась, а он говорил — ещё вернётся.
— Говорил… А я верила. Думала, впереди столько времени. Что женится, детей приведёт. А я внуков нянчить буду…
Они сидели молча. За окном стемнело, на кухне горела только лампочка.
— Алёша на него похож, — вдруг сказала Люда.
— Похож. Такой же упрямый, любопытный. И глаза такие же умные.
— Может, поэтому тебе больно на него смотреть?
Антонина Васильевна задумалась.
— Не больно. Странно. Словно время назад повернулось. Словно Алёшка снова здесь, снова маленький, снова вопросы без конца задаёт.
— А ты не думала, что нашему Алёше тоже нужна эта память? Он даже не знает, что дядя у него был.
— Зачем ему это? Пусть живёт без горя.
— Мам, память — это не только горе. Это и любовь. Алёша былАнтонина Васильевна обняла дочь и тихо прошептала: «Ты права, дорогая, завтра мы с Алёшкой начнём потихоньку разбирать комнату и рассказывать ему всё самое светлое о его дяде».