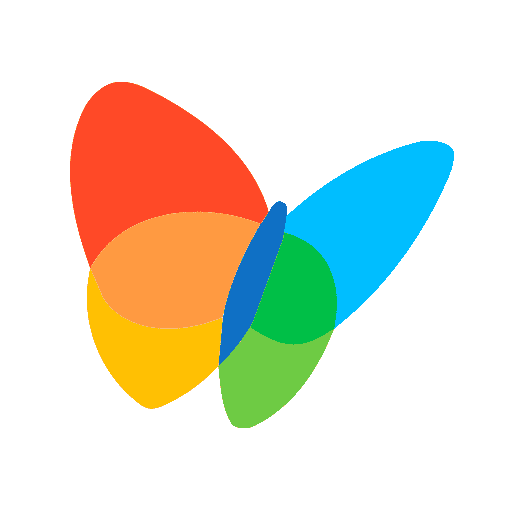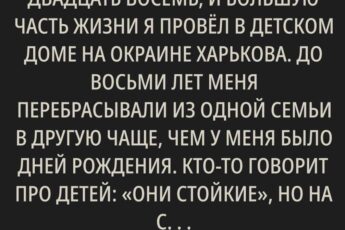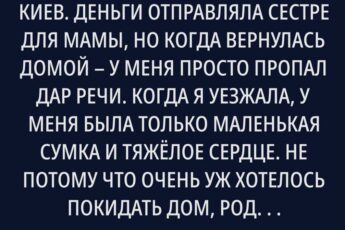В глухом селе Рябиновка, затерявшемся на просторах Рязанской губернии, бабу Марфу не жаловали. Людей она избегала, да и слово «избегала» — еще мягко сказано. Презирала, вот что было правдой, и в этом селяне сходились единодушно. Здоровьем Марфа могла тягаться с волом: косая сажень в плечах, рослая, на голову выше местных мужиков, заставляла их задирать подбородки, чтобы встретиться взглядом. Но этого взгляда никто не искал — на приветствия не отвечала, бурчала в усы и шла мимо, не удостаивая людей взором. Вернее, не опуская глаз — такой уж вышла богатырского роста.
Жила Марфа в самом сердце села, в покосившейся избе, которую, по воспоминаниям стариков, срубил еще ее дед. Двор окружал глухой тын, такой высокий, что заглянуть через него осмеливались единицы. Баба Марфа слыла скорой на руку. Однажды в летний вечер любопытные парни, подгуляв, залезли на забор — поглядеть, как живет эта затворница. Увидев их в окно, Марфа вышла на крыльцо с дедовским берданкой и, не говоря ни слова, дала залп поверх голов. С той поры ее двор обходили за версту.
Хозяйство у Марфы было крепкое: куры, гуси, зайцы, пара козлят. Сельчане шептались: «Куда одной столько? Пенсии бы хватило, а она все копит». Птицу и зайцев Марфа била сама, возила на базар в уездный город, где сбывала весь товар за день. Деньги затыкала за пазуху и возвращалась в свою крепость. Из козьего молока варила сыр по старинному рецепту — дорогой, поговаривали, в губернском городе у нее были свои купцы. Птица — упитанная, зайцы — жирные, яйца — с кулак, обмана не знала. Цену не сбавляла, но брали охотно.
Когда в Рябиновке заговаривали о ней, старухи вспоминали: Марфушка всегда была сумрачной. Мать ее померла, когда девчонка еще на четвереньках ползала. Остались они с отцом — таким же здоровенным и угрюмым. Через пару лет он привел мачеху из соседнего уезда, но та, прожив месяц, сбежала с узелком на станцию. Шептались, будто из-за Марфы не прижилась. Так и жили вдвоем. Когда Марфа подросла, отец уехал на ярмарку и не вернулся. Убили ли его, ушел ли за сбежавшей женой — одному Богу ведомо. Марфа осталась одна. Навек.
Замуж не вышла. «Кто такую-то выдержит?» — перемывали косточки в селе. Годы текли, люди умирали, рождались новые, а Марфа будто застыла во времени. Даже седина ее не тронула — вечно в платке, из-под которого торчал лишь мощный подбородок, орлиный нос да кустистые брови, будто вырубленные топором.
Однажды в лютую зиму у соседей, Кузьминых, занялась изба. Марфа, не говоря ни слова, явилась с багром и, пока пожарные добирались, вместе с хозяевами билась с огнем. Так ловко раскидывала горящие бревна, что дом потом сложили почти из старого леса — не успело дотлеть. Соседи кланялись в пояс, но Марфа лишь хмыкнула и ушла, не обернувшись.
Когда Марфа умерла, в село приехала заведующая приютом №3, Аграфена Семеновна, с двумя няньками и десятком ребятишек. Сельчане, больше из любопытства, чем из жалости, толпой повалили в ее двор. Там открылся образцовый порядок: птичник, клетки для зайцев, хлев для коз — всё как на картинке. В избе — чистота, да пустота. Стол, табурет, железная кровать с провисшей сеткой, шаткий буфет с одной треснутой миской, ложкой, ножом да кружкой без уха. У окна — лавка, лоснящаяся от времени, на лежанке — аккуратно сложенная одежда. И всё.
На столе лежал конверт, надписанный твердым почерком: «Аграфене Семеновне Беловой от Марфы Терентьевны Крутиковой». Заведующая вскрыла его и прочла листок, вырванный из тетради. Позже рассказывала: двадцать лет Марфа исправно переводила приюту деньги — немалые, они очень выручали. В записке значилось: «Избу, хозяйство и все добро завещаю приюту №3. Дети виноватыми не бывают».
Селяне молчали, глядя на пустую избу. Кто-то припомнил, как Марфа, еще девчонкой, сидела на берегу реки, уставясь в воду, будто ждала кого-то. Кто-то шепнул, что отец ее, может, и не пропал, а сбежал, бросив дочь одну. А она, заковав сердце, всю жизнь несла этот крест. И лишь детям, чужим да невинным, отдала все, что копила…